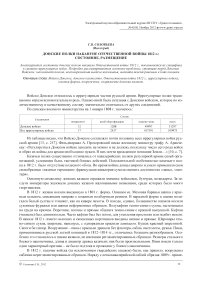Донские полки накануне Отечественной войны 1812 г.: состояние, размещение
Автор: Соловьева Светлана Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируется состояние донских полков накануне Отечественной войны 1812 г., показывается их специфика в системе иррегулярных войск. Подробно рассматриваются основные проблемы, стоявшие перед Донским Войском: некомплект полков, несвоевременная выдача жалованья, выплата пенсий раненым в боях казакам.
Войско донское, донское казачество, отечественная война 1812 г., иррегулярные войска, казачья форма, вооружение, снаряжение донских казаков
Короткий адрес: https://sciup.org/14821778
IDR: 14821778
Текст научной статьи Донские полки накануне Отечественной войны 1812 г.: состояние, размещение
Войско Донское относилось к иррегулярным частям русской армии. Иррегулярные полки традиционно играли вспомогательную роль. Однако иной была ситуация с Донским войском, которое по количественному и качественному составу значительно отличалось от других соединений.
По спискам военного министерства на 1 января 1808 г. значилось:
|
Соединения |
Состав |
|||
|
генералитет |
штаб обер-офицеров |
нижние чины |
всего |
|
|
Донское войско |
12 |
1288 |
49997 |
51297 |
|
Все иррегулярные войска |
17 |
2437 |
107591 |
109975 |
Из таблицы видно, что Войско Донское составляло почти половину всех иррегулярных войск русской армии [13, с. 257]. Фельдмаршал А. Прозоровский писал военному министру графу А. Аракчееву: «Регулярства в Донском войске заводить не можно и не должно, поскольку число сего рода войск и образ их войны для армии необходимо нужен. В них почти врожденное познание Земли…» [10, с. 7].
Казачьи полки существенно отличались от кавалерийских полков регулярной армии своей организацией, условиями быта, тактикой боевых действий. Положительной особенностью казачьего полка в 1812 г. было отсутствие колесного обоза. Во время войны донцы широко и умело применяли свои своеобразные «казачьи термиции»; французская кавалерия сумела оценить достоинства «лавы», «вентеря».
Основную символику донских казаков отражали знамена: войсковое, бунчуки, штандарты. За заслуги императоры жаловали донских казаков жалованными знаменами, среди которых было много георгиевских.
В 1812 г. казаки носили введенную в 1801 г. форму. Опишем ее. Меховая баранья шапка с красным шлыком, свисавшим направо с кожаным подбортным ремнем. В парадной форме к шапке полагался белый султан и этишкет, как на кивере пехоты. В походе, однако, большинство казаков носили суконные фуражки или шапки неформенных образцов. Полукафтан темно-синего сукна, застегивался на груди на крючки. Воротник, погоны и прямые обшлага темно-синие с красной выпушкой. Кафтан (чекмень) был длиннополым. Часто кафтан был без погон, для утепления простеган или подбит мехом. В начале 1812 г. вместо высоких и скошенных воротников введены низкие и прямые. Шаровары темно-синего сукна, широкие, навыпуск, с однорядным красным лампасом. Кушак красный шерстяной. Сапоги без шпор. Вооружение – пика с красным древком без флюгера, сабли, пистолеты, ружья. Пики, применявшиеся русской легкой конницей в 1812–1814 гг., отличались большим разнообразием. Особенно это относилось к пикам казаков, не имевшим регламентированных образцов. Размеры стального боевого наконечника, длина и диаметр древка казачьих пик были произвольными. Пики имели только один характерный признак – не было подтока и прожилин у боевого наконечника.
В 1812 г. казачьи войска (за исключением гвардейских казаков) были, как правило, вооружены саблями нерегламентированных образцов. Наряду с легкокавалерийской саблей образца 1809 г. приме- нялись различные отечественные модели XVIII в., а также всевозможные азиатские, венгерские, польские и другие иноземные типы сабель. Их носили в деревянных ножнах, обтянутых кожей, с медным или железным прибором. Заряды и пули к огнестрельному оружию казак хранил в кожаной лядунке, носимой на черной перевязи, к которой спереди крепились металлический вензель императора Александра I в венке и цепочка. У офицеров лейб-гвардии Казачьего полка перевязь была из красной юфти, шитая серебряной нитью по внешней стороне, а на крышке лядунки была серебряная восьмиконечная звезда. На практике казаки часто использовали снаряжение восточного образца с перевязями и портупеями из ремней, тесемок и шнуров.
Урядники имели серебряные галуны на воротнике и обшлагах, султан с черной верхушкой. Офицеры носили на плечах жгуты из перевитых серебряных шнуров, на обшлагах и воротнике серебряное шитье особого войскового образца; султаны с черно-оранжевым основанием. Им разрешалось носить шпоры и фуражные шапки темно-синего цвета с красным околышем и черным козырьком (на манер офицеров регулярных частей).
У офицеров Атаманского казачьего полка на воротнике и обшлагах в один ряд шло серебряное шитье Войска Донского. Вместо эполет они носили погоны из переплетенных серебряных шнуров. Рядовые казаки были одеты в темно-синие полукафтаны и шаровары. Лампасы на шароварах, лопасть на шапке, выпушка на воротнике и обшлагах, а также на погонах и чепраках были светло-синими. Приборный металл белый. Вооружены они были саблями, карабинами, пистолетами и пиками с красными древками.
В 1796 г. на основе Донской команды императорского конвоя был создан лейб-гвардии Гусарский Казачий полк, разделенный в 1798 г. на лейб-гвардии Гусарский и Казачий полки.
Амуниция казачьих войск была разнообразной. Наряду с черными (у лейб-казаков – белыми) перевязями и панталерами использовалось азиатское снаряжение: узкие ремни с металлическим набором, а также шелковые или шерстяные шнурки и тесьма. Конский убор состоял из казацкого седла (с более высокой лукой и подушкой), ременного прибора и темно-синего суконного чепрака с цветной каймой. К седлу были приторочены чемодан, торба, полушубок, скрученный в скатку, и длинная веревка (аркан).
Донские конно-артиллерийские роты были сформированы в 1797 г. Форма одежды конных артиллеристов почти не отличалась от формы одежды донских казаков: синие полукафтан и шаровары, подшитые черными леями, с красными лампасами, светло-синий пояс, красная выпушка на воротнике и обшлагах. Погоны были темно-синими без выпушки. Шапка казачья с белыми султаном и этишкетом и красным верхом. Однако чаще казаки носили фуражку с красным околышем, черным козырьком и высокой прямой тульей. Артиллеристы были вооружены саблями и пистолетами.
Орудия легких артиллерийских рот (¼-пудовый единорог, 6-фунтовая пушка) имели передки с ящиками для снарядов с запасом первых выстрелов. Калибр ¼-пудового единорога – 120 мм, масса ствола – 335 кг, лафета – 395 кг. К артиллерийским принадлежностям относились банник с прибойником, скребок с пыжовником, трубочная лядунка со скорострельными трубками, пальники, «свечники», «ночник», зарядные сумы, крюки с канатным тросом. Для мелкого ремонта в походных условиях использовалась походная кузница.
В 1812 г. донские полки (кроме лейб-гвардии Казачьего полка) не входили в состав кавалерийских корпусов, а распределялись войсковым атаманом по вполне самостоятельным «казачьим отрядам» под командованием своих же казачьих генералов, полковников. Такие отряды не имели постоянного состава и менялись в зависимости от условий боевой обстановки. В целом же это были мобильные, обладавшие большой маневренностью войсковые соединения.
Однако накануне войны в организации донских полков имелся ряд существенных проблем. Серьезной проблемой в предвоенные годы был постоянный некомплект донских полков. Об этом свидетельствуют полковые ведомости за эти годы, многочисленные рапорты войскового атамана М.И. Платова. В 1811 г. он подал записку военному министру о создавшемся положении. В ней сообщалось, что из имевшихся в наличии на Дону (кроме Атаманского полка) 1600 служилых казаков необходимо было укомплектовать находящиеся в разных местах полки. 1000 человек уже отправлены в Грузию и на Кавказ. Для пополнения числа казаков М.И. Платов предлагал «нанять на войсковые деньги вольных людей для исполнения почтовой повинности, рабочие полки, находящиеся в Новочеркасске, составить из малороссиян, которых определить в казаки и освободить от подушного оклада» [12, с. 2].
Из находившихся на Кавказе 12 донских полков атаман также предлагал отозвать два и направить их в армию, мотивируя это наличием там «поселенных» казачьих войск. Полк Сысоева, состоящий при Дербенте, следовало отпустить: этот пост могли содержать терские казаки. В целом же М.И. Платов отмечал, что посланные в разные места донские полки (например, в Вятскую губернию) для выполнения казенных обязанностей – сопровождения конвойных команд, поимки дезертиров, беглых беспаспортных и т.д. – стали использоваться гражданскими губернаторами не по назначению, т.е. для выполнения функций земской полиции. Между тем ощущалась их острая нехватка на пограничных кордонах, при армиях. Жаловался М.И. Платов и на постоянные «раскомандирации» казаков. Чуть ли не все ротные желали иметь при себе ординарцем и вестовым непременно казака. Им было «за казаком и тепло, и сытно».
Казачьему полку по штату 1812 г. полагались 1 генерал, 16 офицеров, 10 строевых урядников, из них 5 старших, заменявших собою вахмистров, 1 нестроевой урядник (писарь), 550 казаков, 25 драбантов или денщиков, а лошадей (строевых и вьючных) – 561.
Делился полк на пять сотен. Практически же дело обстояло иначе. Например, десятидневный рапорт о состоянии летучего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова от 21 мая 1812 г. показывает, что из 8 донских казачьих полков лишь в одном был полный комплект людей и лошадей. В остальных же – в среднем 10 офицеров, 11 урядников, 400–420 рядовых казаков, 430 строевых и 100–200 вьючных лошадей [5, с. 425]. По состоянию на 10 июня 1812 г. в десяти донских полках армии генерала А. Тормасова некомплект составлял 22 обер- и 3 унтер-офицера, 992 рядовых, 994 лошади [7, с. 147]. Фактически отсутствовали два полка. Полковник Н. Поликарпов определил среднюю численность донского полка накануне войны в 350 казаков, а Атаманского – в 850 [9, с. 352]. Однако более правомерным представляется определение численности донских полков В. Харкевичем: «...к 11 июня средняя численность Атаманского полка составляла 880 казаков, а казачьего полка – 440 человек» [16, с. 38].
Существовали проблемы и с выдачей жалованья казачьим полкам. С 1810 г. было решено заменить натуральную хлебную выдачу денежным жалованьем. Однако за 1810–1813 гг. Войско практически не получило ни денег, ни продовольствия. Да и за 1808–1809 гг. было недополучено хлеба. Лишь в 1814 г. управляющий военным министерством князь А. Горчаков разрешил за «объясненные годы отпустить деньгами», которые были получены благодаря настойчивым ходатайствам атамана. Несвоевременная выдача жалования и продовольствия продолжалась практически все время атаманства М.И. Платова. И только Комитету 1819 г. удалось разрешить эту проблему, определив выдачу суммы 90 тыс. руб. в начале сентября.
Содержание находившихся на службе полков, командированных с Дона, полагалось по последнему штату гусарских полков армии. Оплата фуража производилась за зимние месяцы, исходя из климатических условий, на две лошади: на одну – натурой, а на другую – деньгами. Так, в 1811 г. годовое содержание одной казачьей лошади, находившейся в Новой Финляндии, обходилось 192 руб., а в Земле Войска Донского – 58 руб. В среднем же за эти годы оно составляло 115 руб. [14, с. 37].
Кроме того, в это время предметом обсуждения являлись размеры суммы казаку на одежду, сбрую и ремонт. Военный министр отмечал, «что вьючных лошадей в полках не бывает, да и не для чего требовать, чтобы они их имели», предлагал причитающуюся за них сумму использовать на одежду, сбрую [11, с. 30]. Однако М.И. Платов и войсковая канцелярия, указывая на недостатки такой оплаты («в северном климате – с излишеством довольны, а в южном никогда не бывают исправны») считали правильным выдавать эту сумму (по средним умеренным ценам) по третям года вместе с жалованьем. При таком положении казак успевал бы приготовиться к службе. Доказывая необходимость вьючных лоша- дей при казачьем полку (перевоз груза, больных, замена строевых), атаман предлагал их иметь в полку 11 (т.е. по 2 лошади на десять казаков). В целом же по подсчетам М.И. Платова только выход на службу «по умеренным ценам» обходился казаку в 208 руб. 70 коп.
В 1811 г. М.И. Платов вновь поднял вопрос перед императором и правительством о выплате пенсий раненым и увечным в боях донским офицерам в размере 20000 руб. ежегодно [4, с. 207]. На этот раз он был решен положительно (в 1809 г. получен отказ), и 16 декабря 1811 г. последовал именной указ [10].
Таким образом, накануне войны в организации и обеспечении Войска Донского имелся целый ряд проблем. М.И. Платов, войсковая канцелярия постоянно поднимали их, и правительство, в меру возможностей предвоенного времени, пыталось их решать. К тому же донские полки занимали особое место среди иррегулярных войск русской армии, и военное ведомство постоянно контролировало их состояние.
В апреле 1811 г. Военная коллегия издала указ о форме, по которой казачьи полки регулярно должны были присылать ведомости об их состоянии (казачьи войска до весны 1812 г. находились в ведении Военной коллегии, а затем – военного министерства). Весной 1812 г. по Войску Донскому считалось «в расходе: штаб-офицеров 112, обер-офицеров – 1173, урядников и писарей – 1092, казаков – 39639» [8, с. 49].
Как справедливо заметил Г. Габаев, данные о расположении донских полков накануне войны приводятся различные [1, с. 33]. В большинстве расписаний по армиям они даются общим числом. Даже общее количество донских полков, находившихся на службе весной 1812 г., варьируется от 62 до 65. Следует иметь в виду то, «что казачьи полки в начале войны составляли живую завесу общего фронта русских армий и, как отдельные элементы этой завесы, непрестанно переливались из района одной армии и даже одного летучего отряда в другой» (Там же). Это существенно осложняло определение местоположения того или иного полка. К тому же известно, что донские полки носили имена своих командиров и со смертью последних получали имя нового начальника. Об изменении М.И. Платов не всегда успевал доносить командующим армиями.
Итак, весной 1812 г. на службе находились следующие полки:
-
– 1-й корпус Витгенштейна – 3 полка (полк. Родионова 2-го, М. Селиванова 2-го, подп. Платова 4-го);
-
– 1-я Западная армия – 10 полков (в 3-м пехотном корпусе – лейб-гвардии казачий полк; 9 полков в корпусе атамана М. Платова – Атаманский; г.-м. И. Иловайского 4-го, подп. Иловайского 8-го, г.-м. Денисова 4-го, г.-м. В. Денисова 7-го, полк. Гордеева 1-го, г.-м. А. Карпова 2-го, подп. М. Власова 3-го, подп. К. Харитонова 7-го, 2-я рота конной артиллерии Суворова);
-
– 2-я Западная Армия – 8 донских полков (г.-м. Н. Иловайского 5-го, полк. О. Иловайского 10-го, полк. Т. Иловайского 11-го, полк. В. Иловайского 12-го, полк. В. Сысоева 3-го, подп. Слюсарева 2-го, подп. И. Андриянова 2-го, в.ст. Платова 5-го), 1-я рота Донской конной артиллерии Тацына;
-
– 3-я Обсервационная Армия – в легких войсках 6 полков (полк. Г. Дячкина, подп. Барабанщикова, подп. Янова 2-го, подп. Мелентьева 2-го, в.ст. Чикилева, в.ст. Власова 2-го);
-
– Дунайская Армия – 10 полков (г.-м. Грекова 8-го, полк. Грекова 4-го, полк. Г. Луковкина, подп. Мельникова 5-го, подп. Кутейникова 4-го, подп. Астахова 4-го, в.ст. Киреева, в.ст. Пантелеева, в.ст. Исаева 4-го, в.ст. Мелентьева 3-го);
-
– на Кавказе – 20 полков (подп. Ильина 1-го, подп. Араканцева, подп. Балабина 1-го (ком. есаул Поляков), подп. Ежова 1-го, подп. Агеева 2-го, подп. Извалова, подп. Богачева, в.ст. Агеева 3-го, в.ст. Краснова 3-го, в.ст. Сафонова 1-го, в.ст. Петрова, в.ст. Рубашкина, в.ст. Сычова 3-го, в.ст. Самойлова, в.ст. Молчанова 2-го, в.ст. Поздеева 8-го, в.ст. Попова 16-го, м. Рябинина, м. Данилова, м. Сысоева 2-го);
-
– в Финляндии – 3 полка (полк. Исаева 2-го, подп. Лощилина, в.ст. Киселева 2-го);
-
– в Москве – в.ст. Грекова 21-го;
-
– в Новочеркасске – 2 рабочих полка (в.ст. Гревцова 2-го, полк. А. Ягодина 2-го);
-
– вновь сформированные на Дону 2 полка;
-
– в Казани – двухсотенная команда;
-
– в крепости св. Дмитрия и в Таганроге – 2 команды;
-
– 10 команд, сопровождавшие партии в рекрутские депо из Воронежской губернии и с Дона.
Всего же на службе состояло 65 полков, две конноартиллерийские роты, 13 команд. Кроме того, находились на войсковом содержании 1658 человек для выполнения почтовой обязанности, карантинной и кордонной стражи; 1319 человек при исполнении войсковых должностей.
Следует также отметить, что согласно расписанию 81-го набора рекрутов от 29 сентября 1811 г. из крестьян, принадлежавших донским помещикам, было набрано 564 чел. [15, с. 30].
На Дону, как и по всей России, ощущали надвигающуюся опасность новой войны. В марте 1812 г. на основании предложения наказного атамана г.-л. А.К. Киреева был разослан по станицам указ, «чтобы состоящие налицо служилые чиновники и казаки были во всей готовности к походу на случай экстренного востребования» [3, с. 1]. Атаман М. Платов в мае 1812 г. писал императрице Марии Федоровне: «…Воины Донского Войска ощущают новые силы на защиту престола и любезнейшего Отечества, коему преданы мы всей душой» [6].
Список литературы Донские полки накануне Отечественной войны 1812 г.: состояние, размещение
- Габаев Г. Роспись pусским полкам. Киев, 1912.
- Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 46. Оп. 1. Д. 244.
- ГАРО. Ф. 338. Оп. 3. Д. 412.
- Жуpнал Комитета Министpов 1810-1812 гг. СПб., 1891. Т. 2.
- Иностpанцев М.А. Отечественная война 1812 г. Опеpации 2-й Западной аpмии князя Багpатиона от начала войны до Смоленска. Спб., 1914.
- Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 143. Д. 203.
- Отечественная война 1812 г. Матеpиалы Воен.-учен. архива. СПб., 1910. Т. XIII. \
- Отечественная война 1812 г. Матеpиалы Воен.-учен. архива. СПб., 1911. Т. XVII.
- Поликаpпов Н. Кpаткая истоpическая спpавка о донских казачьих полках 1812 года//1812 год. 1912. № 9-10.
- Полное собрание законов Российской империи. Вып. 1. Спб., 1830. Т. 31. № 24910.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1964.
- РГВИА. Ф. ВУА. Д. 16849.
- РГВИА. Ф. 1162. Оп. 9. Д. 7. Ч. II.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1409. Оп. 1. Д. 2477.
- РГИА. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 10.
- Хаpкевич В. Действия Платова в аpьеpгаpде Багpатиона в 1812 году. Кавалеpийские бои пpи Миpе и Романове. Спб., 1901.