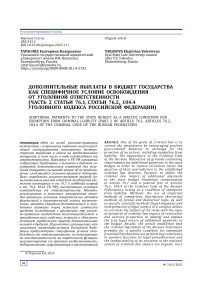Дополнительные выплаты в бюджет государства как специфичное условие освобождения от уголовной ответственности (часть 2 статьи 76.1, статьи 76.2, 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации)
Автор: Тарасова Е.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 (81), 2025 года.
Бесплатный доступ
Одна из целей уголовно-правового воздействия – исправление виновного лица посредством стимулирования позитивного постпреступного поведения в обмен на предоставление поощрения, в том числе в виде освобождения от ответственности. Появление в УК РФ оснований, содержащих требования о выплате в бюджет государства дополнительных платежей для получения поощрения, вызывает вопрос об их противоречии сложившейся уголовно-правовой доктрине. Цель: определить уголовно-правовую природу дополнительных выплат в бюджет государства (денежное возмещение в ст. 76.1 и судебный штраф в ст. 76.2, 104.4 УК РФ), выступающих условием освобождения от ответственности. Методы: использование в комплексе эмпирических методов сравнения, описания, теоретических методов формальной и диалектической логики, частнонаучных методов (юридико-догматического и толкования правовых норм) позволило соотнести предмет исследования с признаками мер уголовно-правового воздействия восстановительного и принудительного свойства, выявить и объяснить истинную юридическую природу дополнительных выплат в бюджет. Результаты: установлено, что уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено специфичное условие освобождения от ответственности, не выполняющее ни восстановительной, ни карательной функции; аргументирована его правовая необоснованность, недопустимость существования в отечественной системе уголовно-правового воздействия, поскольку выполнение данного условия не свидетельствует об исправлении виновного.
Судебный штраф, денежное возмещение, освобождение от ответственности, возмещение вреда, уголовно-правовое воздействие, уголовно-правовое поощрение
Короткий адрес: https://sciup.org/142245828
IDR: 142245828 | УДК: 343.2 | DOI: 10.33184/pravgos-2025.3.11
Текст научной статьи Дополнительные выплаты в бюджет государства как специфичное условие освобождения от уголовной ответственности (часть 2 статьи 76.1, статьи 76.2, 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации)
В научной литературе уже высказывались меткие замечания о том, что в уголовном законодательстве постепенно происходит процесс меркантилизации [1, с. 54–63] – появление у государства излишней заинтересованности в мерах воздействия имущественного характера. Особо примечательно его отражение в институте освобождения от ответственности, в частности требования ч. 2 ст. 76.1 и ст. 76.2, 104.4 УК РФ о перечислении в бюджет Российской Федерации двукратного денежного возмещения и уплаты судебного штрафа с момента появления данных норм стали предметом постоянных дискуссий.
Главным образом речь идет о природе обозначенных выплат и основаниях предоставления за их уплату поощрения в виде освобождения от ответственности, поскольку в силу устоявшихся в доктрине воззрений оно становится возможным исключительно в силу утраты виновным лицом общественной опасности [2, с. 403; 3, с. 76], что, в свою очередь, свидетельствует и о достижении цели исправления без использования аппарата принуждения. Кроме того, нивелирование общественной опасности лица достигается и посредством отбывания наказания, поэтому нередко в попытках обосновать правомерность условий об уплате двукратного денежного возмещения и судебного штрафа правоведы выделяют два основных подхода: карательный и восстановительный.
Двукратное денежное возмещение (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ)
При внимательном изучении ч. 2 ст. 76.1 УК РФ можно заметить, что требование о кратной выплате в бюджет прямо поименовано как денежное возмещение. Однако более детальное рассмотрение положений статьи показывает, что единственным условием, имеющим восстановительный характер, является возмещение ущерба, причиненного гражданину, организации или государству. Именно надлежащее возмещение ущерба демонстрирует снижение лицом своей общественной опасности, поскольку таким образом преступник нивелирует последствия, в которых отражается его вина. Альтернативные же условия о перечислении в бюджет преступных доходов, сумм, эквивалентных убыткам, которых удалось избежать, либо размеру совершенного деяния, сложно ассоциировать даже с заглаживанием вреда, поскольку перечисляются они государству, которое в большинстве деяний фактически не является реальным потерпевшим. Например, при злостном уклонении от уплаты кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) потерпевшим выступает кредитор – физическое или юридическое лицо, при ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ) глав- ным образом страдают добросовестные участники рынка, осуществляющие предпринимательскую деятельность.
В самом требовании о двукратном денежном возмещении в бюджет, несмотря на наименование, трудно рассмотреть восстановительный характер. В уголовном праве возмещение традиционно связывается с понятием «ущерб» – чем-то нашедшим выражение в объективной реальности. Однако здесь справедливыми следует признать выводы исследователей о том, что «двукратная сумма убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, или эквивалента размера совершенного преступления ничего не возмещает, поскольку возмещать здесь просто нечего» [4, с. 8]. К тому же очевидно, что если ущерб был причинен гражданину или организации, то возмещается он непосредственно им. Кратная же выплата уходит государству, которое, в сущности, не претерпело от преступления никаких вредных последствий.
Представленный подход может косвенно свидетельствовать о позиционировании государством себя как потерпевшего в любом деянии, указанном в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, что недопустимо. Безусловно, основным признаком преступления является общественная опасность, что означает создание угрозы или непосредственное причинение вреда всему обществу, а разграничить понятия «общество» и «государство» достаточно затруднительно в силу их тесного соприкосновения и взаимодействия, тем не менее необходимо согласиться, что «на теоретическом, познавательном уровне государство и общество не совпадают друг с другом» [5, с. 93]. Поэтому признание государства потерпевшим в уголовно-правовом смысле возможно только в силу причинения вреда (или) ущерба элементам его организационной структуры (системе органов власти, бюджетной и налоговой системе и т. д.).
Таким образом, получение государством двукратного денежного возмещения с позиции восстановления нарушенных прав не может считаться правомерным. Во-первых, у данной выплаты нет надлежащего адресата – потерпевшего, который действительно пострадал от совершенного в отношении него преступления и нуждается в компенсации причиненного вреда. Во-вторых, в целом размер двукратного денежного возмещения не имеет взаимосвязи с виной преступника, как это происходит в ситуации наличия реального ущерба, следовательно, выполнение этого условия не может служить критерием оценки утраты или снижения лицом общественной опасности.
В науке существует мнение о дополнительной выплате и как о мере ответственности, возлагаемой на преступника [6, с. 7; 7, с. 9]. Например, А.Г. Антонов аргументирует характер двукратного возмещения тем, что по своей природе оно близко к штрафу как виду уголовного наказания, так как схоже с его вариантами, закрепленными в ч. 2 ст. 46 УК РФ [8, с. 7]. Указывают исследователи и на высокий карательный потенциал, который находит свое проявление в том, что такое возмещение зачастую составляет сумму в разы большую, чем содержащееся в санкции наказание в виде штрафа за конкретное деяние [9, с. 193; 10, с. 80–81].
В качестве контраргументов высказывались тезисы об отсутствии неотъемлемого для наказания принудительного характера, карательной функции, а также негативных последствий невыплаты двукратного денежного возмещения в бюджет [4, с. 6]. Данные утверждения следует признать справедливыми, при этом последний довод – относительно неблагоприятных последствий – представляет особый интерес, поскольку негативным последствием нежелания уплатить двукратное денежное возмещение в бюджет является привлечение к ответственности, что само по себе нельзя назвать позитивным результатом работы системы уголовно-правового воздействия.
О некорректности сравнения двукратной выплаты с наказанием говорит и то, что такое «наказание» отбывается до принятия решения по делу, что, конечно, противоречит общепринятому порядку реализации мер ответственности.
Таким образом, приведенное сравнение носит весьма поверхностный характер, а двукратное денежное возмещение и в данном проявлении не может выступать индикатором снижения общественной опасности лица и, соответственно, его исправления.
Отдельно следует отметить, что до принятия нормы ч. 2 ст. 76.1 УК РФ правоприменитель при рассмотрении дел использовал классические основания, предусмотренные ст. 75 и 76 УК РФ, содержащие комплекс усло- вий освобождения, выполнение которых действительно свидетельствует об утрате лицом общественной опасности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что особой потребности в принятии нормы ч. 2 ст. 76.1 УК РФ не было.
Судебный штраф (ст. 76.2, 104.4 УК РФ)
Появление в уголовном законе положений о судебном штрафе (ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ) вызвало серьезный резонанс в научной среде. Некоторые ученые полагали, что он не будет пользоваться популярностью у правоприменителя [11, с. 101], однако прогноз не оправдался, и на сегодняшний день по востребованности у судов нормы об освобождении от ответственности с назначением судебного штрафа занимают второе место1.
В качестве аргументов в пользу правомерности существования в УК РФ судебного штрафа выдвигаются идеи о его карательном и восстановительном свойстве.
С первым все кажется более очевидным. Во-первых, само наименование «штраф» и его определение в качестве «взыскания», данное в ч. 1 ст. 104.4 УК РФ, говорит о родственном с наказанием характере; во-вторых, один из вариантов установления верхнего предела суммы судебного штрафа, допустимой к назначению, – половина штрафа как вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей нормы (ч. 1 ст. 104.5 УК РФ); в-третьих, обстоятельства, которые должны быть учтены судом при его назначении, имеют сходство с общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ); в-четвертых, его уплата, как и отбывание наказания, должна производиться после принятия судебного решения. Однако следует помнить, что единственное основание назначения наказания – привлечение виновного к ответственности, чего в данном случае не происходит.
Исследователями неоднократно высказывались мнения, что нормы о судебном штрафе необходимы для ситуаций, когда на момент принятия решения об освобождении от ответственности лицо в полной мере не утрати- ло свою общественную опасность, вследствие чего к нему следует применить меру уголовно-правового воздействия карательного характера. Так, Е.А. Хлебницына указывает, что «условием освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим является характеристика личности виновного, основанная на позитивном послепреступном поведении. Отсутствие позитивного послепре-ступного поведения исключает возможность освобождения лица от уголовной ответственности на основании ст.ст. 75 и 76 УК РФ и предполагает необходимость дополнительного воздействия на него, выраженного в денежном взыскании, предусмотренном в ст.ст. 76.1 и 76.2 УК РФ» [12, с. 9]. Схожую точку зрения высказал С.П. Андреев, отметив, что «…назна-чение судебного штрафа является справедливым в тех случаях, когда назначение уголовного наказания излишне сурово, а освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 75, 76 УК РФ излишне гуманно» [13, с. 10].
По нашему мнению, представленные выводы невозможно назвать корректными, поскольку ст. 76.2 УК РФ устанавливает требование к позитивному постпреступному поведению, которое и должно найти выражение в возмещении ущерба. Также следует возразить утверждению о возможности существования ситуаций промежуточного характера между необходимостью привлечения к ответственности и отсутствием таковой, поскольку закрепленная в УК РФ современная система средств уголовно-правового воздействия имеет широкий перечень элементов, каждый из которых ориентирован на решение своих задач, в том числе и при отсутствии необходимости в применении серьезных суровых мер (например, назначение наказания в виде штрафа, обязательных работ и т. д.).
Освобождение от ответственности в целом всегда означает отказ государства от возможности применения репрессивного уголовно-правового воздействия к виновному2 [14, с. 72–73]. А его отдельные виды, связан- ные с позитивным постпреступным поведением, объединяет необходимость установления на момент принятия решения факта утраты лицом общественной опасности в силу совершения активных действий, направленных на заглаживание своей вины. Поэтому сравнение указанной меры с наказанием с позиции целей и строения системы уголовно-правового воздействия в очередной раз следует признать некорректным.
Аргументы в пользу восстановительного характера уплаты судебного штрафа представляют значительный интерес. Как и в случае ст. 76.1 УК РФ, бесспорно проявление обозначенной природы в условии возмещения ущерба или заглаживания вреда перед потерпевшим. При этом в попытках объяснить получение государством денежных средств в виде суммы судебного штрафа авторы также выделяют цель пополнения бюджета Российской Федерации, возмещения государству затрат на правоохранительную деятельность, а также, в частности, расходов на предварительное расследование [15, с. 11–12; 16, с. 62; 17, с. 90].
По нашему мнению, с данными утверждениями нельзя согласиться. Во-первых, «компенсацию» в виде судебного штрафа платят не все освобождаемые от ответственности, что говорит о несоблюдении принципа справедливости. Во-вторых, правоохранительная деятельность является базовой потребностью любого общества и государства, поэтому затраты на нее всегда включаются в федеральный бюджет3, который пополняется за счет налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также наказаний имущественного характера. Например, штраф и удержания из заработной платы осужденных к исправительным и принудительным работам (ч. 3 ст. 50 УК РФ и ч. 5 ст. 53.1 УК РФ) поступают именно в бюджет государства. Однако судебный штраф, как уже было доказано, наказанием не является. В-третьих, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен механизм возмещения части процессуальных расходов (ст. 131–132 УПК РФ). Конечно, при освобождении от ответственности и рассмотрении дела в особом производстве лицо освобождается от их уплаты, однако если уж и вносить в законодательство изменения, направленные на компенсацию трат государства на представленный вид деятельности, то делать это необходимо правомерными и логичными способами, изменяя процессуальный закон, а не внося противоречащие доктринальным основам изменения в материальное право. В-четвертых, подсчитать все расходы государства на правоохранительную деятельность затруднительно. В таком случае при определении размера судебного штрафа в каждом конкретном деле суд должен мотивировать свое решение, что с позиции ч. 2 ст. 104.5 УК РФ от него не требуется. Тогда остается неясным, почему в одном деле для «компенсации» достаточно выплаты в размере 10 000 рублей, а в другом – 1 000 000 рублей.
Необходимо обратить внимание, что нередко освобождение от ответственности с назначением судебного штрафа применяется, когда деяние не повлекло причинения реального ущерба и фигура конкретного потерпевшего отсутствует. В таких случаях вред номинально заглаживается перед всем обществом, что с позиции материального признака преступления логично и правомерно. При этом возмещение в виде денежных средств и иной материальной помощи чаще всего направляется в разные казенные учреждения, в силу чего государство получает не только назначенный судебный штраф, но и выплаты в пользу своих организаций. Приведем примеры.
Мирненко А.А. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельных официальных документов). В ходе расследования он признал вину, раскаялся в содеянном и загладил причиненный вред путем благотворительного взноса на сумму 5 000 рублей. В результате Мирненко А.А.был освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 10 000 рублей4.
Никитин Р.А., виновный в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в значительном размере), был освобожден от ответственности с назначением судебного штрафа в размере 20 000 рублей. Преступник признал свою вину, принес извинения в судебном заседании и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Заглаживание им вреда перед обществом выразилось в оказании помощи социально-реабилитационному центру в размере 10 000 рублей5.
Следует особо отметить, что государственные обвинители в приведенных делах выступали против освобождения виновных от ответственности, что, по данным проведенного нами исследования, характерно как в целом для преступлений, в которых реальный ущерб отсутствует, а вред является весьма абстрактным и не подлежит оценке в денежном эквиваленте, так и, в частности, для деяний, посягающих на общественную безопасность, здоровье населения и общественную нравственность. Если в отношении первой категории прокуроры высказывают возражения против освобождения в 55 % случаев, то в отношении второй – в 81 %. Чаще всего такое несогласие обосновывается отсутствием возможности объективно установить, действительно ли виновное лицо утратило общественную опасность, поскольку уплата судебного штрафа об этом свидетельствовать не может (к моменту принятия решения она еще не произведена), а заглаживание вреда, как правило, носит символический характер, его размер определяется самим преступником.
Таким образом, судебный штраф нельзя считать и мерой восстановительного характера, поскольку он не возмещает причиненный конкретному потерпевшему ущерб, в его сумме невозможно обнаружить отражение вины преступника, следовательно, его выплата, направляемая государству, не является демонстрацией исправления лица и не свидетельствует об утрате им общественной опасности.
Дополнительные выплаты как трансакционный платеж: вопрос правовой допустимости
В отдельном анализе нуждается придаваемая как кратному денежному возмещению, так и судебному штрафу природа трансакционного платежа, характерного для законодательства зарубежных стран («бельгийско-нидерландская» модель, реализуемая в Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии и др.). Данное явление хорошо изучено и в зарубежном, и в российском научном дискурсе, поэтому ограничимся его кратким описанием, используя наработки авторов, исследовавших проявление трансакционных начал в российском уголовно-правовом поле.
Я.М. Матвеева определяет, что «суть данной альтернативы решения уголовно-правового конфликта состоит в отказе от преследования со стороны государства, если виновное лицо уплатило определенную денежную сумму в казну и (или) выполнило некие финансовые условия, поставленные компетентным органом или должностным лицом» [18, с. 94]. Безусловно, такое понимание свидетельствует о сдельной основе освобождения, на что указывают и другие российские исследователи. Например, С.А. Шумаков отмечает, что по своей юридической природе ч. 2 ст. 76.1 УК РФ обладает характером сделки с правосудием, которая носит взаимовыгодный характер [19, с. 10]. При этом автор указывает на возможную финансовую недоступность данной сделки, однако с оговоркой, что преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, связаны с коммерцией, поэтому подобный подход можно считать допустимым в силу наличия у виновного материальных ресурсов на выплату установленной суммы.
Тем не менее следует согласиться с мнением Г.С. Русман, что «поощрительные формы уголовного судопроизводства не могут быть квалифицированы в качестве "сделки" ввиду публичного начала поощрительных процессуальных правоотношений» [20, с. 24]. Как поддержку последнего аргумента необходимо обозначить, что основания освобождения от ответственности, связанные с позитивным посткриминальным поведением, даже теоретически не могут являться недоступны- ми для виновного, поскольку в таком случае следует говорить о дискриминации лиц, не обладающих соответствующими финансовыми возможностями6.
Важно отметить и то, что стороны исследуемой «сделки» априори не находятся в равном положении, и если выгода одной стороны состоит в обогащении, то другой – в отсутствии негативных последствий уголовно-правового воздействия карательного характера, что, по сути, принуждает ее к заключению данного договора.
Выводы
-
1. Положения об уплате двукратного денежного возмещения (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ) и судебного штрафа (ст. 76.2, 104.4 УК РФ) определенно являются самостоятельными
-
2. Установление требований о выплате обязательных платежей в бюджет для получения уголовно-правового поощрения со стороны государства неприемлемо для права и законодательства стран, где понятие преступления имеет материальный признак. В рамках данного подхода любой из уголовно-правовых элементов воздействия должен быть ориентирован на достижение цели исправления виновного, что проявляется в снижении или утрате им общественной опасности. Тем не менее условия об уплате дополнительных платежей нашли свое распространение в странах СНГ (Беларусь, Азербайджан, Узбекистан).
специфическими условиями освобождения от ответственности. Они не имеют ни карательного, ни восстановительного свойства и не могут свидетельствовать о снижении общественной опасности лица. Основная их цель – пополнение бюджета государства, что означает подчинение уголовного закона фискальным задачам, не характерным для данной отрасли права.