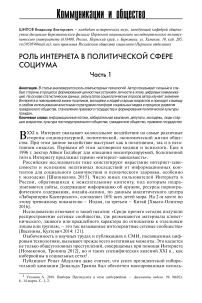Достоверность освещения политической ситуации в России современными СМИ в восприятии студенческой молодежи
Автор: Ежов Дмитрий Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Молодежь России - XXI век
Статья в выпуске: 9, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается анализ результатов всероссийского опроса, проведенного в рамках изучения социально-политических настроений студенческой молодежи. Внимание автора концентрируется на проблеме оценки достоверности освещения политических событий современными СМИ в восприятии молодежного сегмента аудитории. Оценивается уровень достоверности информации, распространяемой посредством телевидения и глобальной сети Интернет.
Политическая ситуация, средства массовой информации, студенческая молодежь, телевидение, интернет
Короткий адрес: https://sciup.org/170170834
IDR: 170170834 | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6145
Текст научной статьи Достоверность освещения политической ситуации в России современными СМИ в восприятии студенческой молодежи
В XXI в. Интернет оказывает колоссальное воздействие на самые различные стороны социокультурной, политической, экономической жизни общества. При этом данное воздействие выступает как в позитивном, так и в негативном смыслах. Первыми об этом заговорили медики и психологи. Еще в 1996 г. доктор Айвен Голдберг для описания неконтролируемой, болезненной тяги к Интернету предложил термин «интернет-зависимость».
Российские исследователи тоже констатируют нарастание интернет-зави-симости и осознание негативных последствий от информационных кон-тентов для социального самочувствия и психического здоровья, особенно у молодежи [Шаповалова 2015]. Число юных пользователей Интернета в России, обратившихся к нежелательному контенту, под которым подразумеваются сайты, содержащие информацию об оружии, ресурсы порнографического содержания, онлайн-казино, по данным аналитического центра «Лаборатория Касперского», составляет 16% всех детей мира. На 2-м месте по этому тревожному показателю – Индия, на третьем – Китай [Хвыля-Олинтер 2016].
Исследователи отмечают и такой негатив: «Среди прочего сегодня получили распространение сетевые сообщества, где размещаются материалы клеветнического, лживого или враждебного характера по отношению к отдельным лицам или группам, – это так называемые интолерантные сетевые сообщества» [Васенина, Кухтевич 2014: 121].
Озабоченность в научных трудах и публикациях в СМИ, посвященных цифровым технологиям, вызывают прежде всего негативные моменты. Это касается не только общеуголовных преступлений, совершаемых при помощи Интернета [Номоконов, Тропина 2012], но и таких специфических явлений XXI в., как кибервойны в социальных сетях1.
Публицист Ренат Абдуллин даже считает, что успех президентской избирательной кампании Дональда Трампа был обеспечен массированным исполь- зованием «цифры», а «сельский парень» Брэд Парскаль в одночасье стал «компьютерным гением» и самым крутым политтехнологом мира, так как его команда применила новые, неординарные технологии влияния на американских избирателей в Интернете и обеспечила победу Д. Трампу, несмотря на то что на стороне Х. Клинтон были традиционные и основные СМИ США. Согласно отчетам о тратах на президентскую кампанию, Д. Трамп на работу с интернет-ресурсами истратил 14,2 млн долл. США, а Х. Клинтон – только 3,1 млн.1
Вряд ли с такой точкой зрения можно согласиться, т.к. победу Дональду Трампу на выборах президента США в 2016 г. принесла, прежде всего, правильно выбранная политическая стратегия, а не только «цифровая» среда политики его предвыборного штаба. Здесь скорее прав исследователь В.Д. Соловей [Соловей 2017].
Можно вспомнить выборы президента РФ в 2018 г., когда кандидат в президенты России К.А. Собчак имела в период выборной кампании более 4,5 млн подписчиков в Instagram , но это не обернулось для нее числом голосов, полученных на выборах: на избирательных участках голоса за нее отдали только около 1,2 млн чел.
Позитивная и негативная роль Интернета в политике в целом уже известна. Кроме оперативной, полной, красиво оформленной информации о конкретном кандидате (партии, движении и т.п.), наблюдаются различные «вбросы», «фейки», призывы к выходу на несанкционированные митинги (в т.ч. несовершеннолетних), и даже в определенном смысле фиксируется мобилизующая роль Интернета при реализации Арабской весны и «цветных революций».
Многие асоциальные явления, к которым призывают нечистоплотные пользователи Интернета (выход на те же несанкционированные митинги и т.п.), власть, как правило, довольно успешно нейтрализует. И сами «протестующие» после получения объективной и достоверной информации понимают, что их банально «развели», как нередко «разводят на деньги» кибермошенники доверчивых, наивных или азартных граждан [Бартлетт 2017].
Труднее официальной власти нейтрализовать «неугодную политагитацию», т.к. здесь на первый взгляд отсутствует прямой материальный корыстный умысел. При этом сама власть тоже видит возрастающую роль Интернета в политике и начинает его активно использовать. Оппозиционная официальной власти газета «Собеседник» пишет: «Есть и другой класс блогеров – общественнополитические. Они влияют на общественное мнение – причем именно среди тех, кто в поисках честной истины сбежал от “зомбоящика” – ТВ – в соцсети. Но мир политблогеров циничен, сложен и непрозрачен, а многие ниточки так или иначе ведут в Кремль»2. При этом в публикации ни одной конкретной «ниточки из Кремля» не приводится.
Иногда властная элита, предлагая законопроекты о регулировании социальных сетей в РФ3, наталкивается на довольно жесткую критику4. Существуют в мире примеры и более радикального характера ограничения всемирной сети: «В настоящее время в Туркмении Интернет доступен лишь 1% населения, а многие неугодные сайты заблокированы. Международная организация “Репортеры без границ” еще в ноябре 2006 года включили Туркмению в список 13 государств — “врагов Интернета”»1.
Подобные «радикальные подходы» по отношению к Интернету (ограничения) несут угрозу любому государству, т.к. в наступившую эпоху IT -технологий государство рискует остаться на обочине «всемирной истории», стать сырьевым придатком стран с высоким уровнем развития цифровой экономики.
При этом, разумеется, с киберпреступностью все государства должны вести непримиримую борьбу, т.к. это является новой криминальной угрозой современному обществу [Сериева 2017: 104]. Но для этого следует не запрещать Интернет как таковой, а планово повышать спецквалификацию сотрудников правоохранительных органов, создавать специальные подразделения по борьбе с компьютерной преступностью и обязательно иметь в штате специалиста в этой области в каждом подразделении правоохранительных органов [Бардина, Шилов 2018: 18]. Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем «медиаполицейский» войдет в первую пятерку профессий будущего (первые четыре – IT -проповедник, агроинформатик, архитектор интеллектуальных систем управления, биоинженер)2.
В информационную эпоху большие проблемы конкретной личности может принести Интернет и в социально-нравственном плане (кроме прямого материального ущерба от кибермошенников). Автору этих строк приходилось выступать экспертом в Березниковском отделении УФСБ по Пермскому краю по поводу размещения на страничках в соцсетях нацистской символики (ее пропаганда и публичная демонстрация запрещены в РФ статьей 20.3 КоАП). Административный штраф предусматривается небольшой (порядка 1 тыс. руб.), но будущая карьера молодых людей (как правило, это молодежь) может быть омрачена.
Можно привести пример из газеты «Криминал» с красноречивым названием статьи «Интернет-эксгибиционизм: как выписывают “волчий билет” за фото ню и мысли в соцсетях». Если верить автору данной публикации, в современной России наблюдается и такая тенденция: «в средних школах и университетах есть негласное указание для учителей и преподавателей – не ругать в Сети власть. Наш корреспондент в одном из петербургских вузов наблюдал, как это делается на практике: ректор собрал сотрудников и сказал в том духе, что кто будет проявлять в интернете оппозиционные взгляды, будет лишен премий либо вовсе уволен. А если уж кто-то в преподавательской среде выразит симпатии Алексею Навальному, то выпишут и выписывают “волчий билет” на веки вечные»3.
Бестактный, опрометчивый контент в соцсетях может быть удален пользователем, но уже есть крылатая фраза: «Интернет помнит все!» Культура поведения на просторах Интернета оставляет желать лучшего (в т.ч. и политиче -ская культура), но при этом определенные «самоограничения» сегодня уже наблюдаются. Профессор, доктор экономических наук, экс-министр региональной и национальной политики РФ, бывший член Совета Федерации РФ от Пермского Прикамья Е.С. Сапиро в интервью пермской краевой газете «Звезда» на вопрос: «Почему фейсбучное сообщество все реже обсуждает остроактуальные общественно-политические и экономические проблемы, предпочитая мимимишные фоточки и безобидные темы про погоду, еду, детей, зверей?» – ответил: «Средний возраст моих друзей за 40. Думаю, у них срабатывает инстинкт самосохранения. Да и у меня тоже». Примечательно, что интервью в газете с Евгением Сауловичем озаглавлено его словами: «Хамов я вышибаю»1 (Е.С. Сапиро в Фейсбуке имеет 3,5 тыс. френдов).
Несмотря на все рассмотренные выше риски, Интернет в XXI в. способствует развитию гражданского общества и правового государства. На данную проблему обратили внимание и наши соседи в Республике Беларусь. Так, депутаты, представители Постоянного комитета СГ, Гомельского облисполкома и эксперты отрасли сошлись во мнении, что в наши дни «силу печатного слова необходимо множить на активное присутствие в социальных сетях. Без этого просто нельзя – это новая реальность информационного поля»2.
Д.А. Медведев, занимая пост президента РФ, вел видеоблог, но забросил его, когда занял пост премьер-министра. Президент В.В. Путин в 2017 г. на встрече в образовательном центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи признался, что не ведет никаких аккаунтов, объяснив: «Мне вечером до койки бы доползти...»3 При этом В.В. Путин не запрещает аккаунты, заведенные от его имени, т.к. эти добровольные пропагандисты не извращают его речи.
В России депутаты пока мало используют Интернет в своей практической деятельности. К концу 2017 г., если отбросить единичные эксперименты с новыми форматами вроде запуска собственных каналов на YouTube , основная масса депутатов Госдумы РФ присутствует в Фейсбуке (252 аккаунта) и ВКонтакте (219 аккаунтов), в Твиттере (183) и Инстаграме (155). Всего же число депутатов, имеющих хотя бы один аккаунт в социальных медиа, на конец осенней сессии 2017 г. составило 307 чел. из 450. По состоянию на конец декабря 2017 г. более 32% депутатов Госдумы не имели аккаунтов в социальных сетях, а часть присутствовали в них чисто номинально.
На Западном Урале (синоним – Пермский край) для многих депутатов Законодательного собрания социальные сети стали фактически приоритетным каналом взаимодействия с обществом, т.е. работающим инструментом обратной связи с избирателями4. Но если при этом посмотреть топ-50 активности депутатов Госдумы, то ни одного депутата от Пермского края в нем нет (в состав Госдумы входят 7 депутатов от Пермского края: Алексей Бурнашов, Александр Василенко, Андрей Исаев, Дмитрий Сазонов, Игорь Сапко, Дмитрий Скриванов и Игорь Шубин).
Современным политикам следует уделять Интернету самое пристальное внимание. Сегодня в рамках одной социальной сети можно компактно уместить не только такие фундаментальные общественные институты, как бизнес, торговля, образование, но и важную, многоаспектную сферу политики. Тем более что в повседневной жизни активно выходят в Интернет не только представители молодежи, но и поколение 65+. К тому же последние (пенсионеры) считаются «ядерным электоратом» на выборах любого уровня.
В 2018 г. 14% людей старших возрастов выходят в Интернет с помощью смартфона, для того чтобы общаться, читать новости, узнавать прогноз погоды, узнавать, в какой аптеке города есть нужное лекарство и где оно стоит дешевле, записаться на прием к врачу, оплатить коммунальные платежи, зарегистриро- ваться на сайте госуслуги.рф и позвонить бесплатно родственникам в другой город»1.
В научной среде также появляются академические интернет-сети, которые, нужно признать, научное сообщество пока оценивает неоднозначно [Душина, Хватова, Николаенко 2018: 131]. Однако тенденция очевидна — Всемирная паутина охватывает практически все социальные общности. То есть, политики и политтехнологи на просторах Интернета могут не просто найти большой массив потенциальных избирателей, но и представить гражданам свои программы, предложения, оперативно осуществлять обратную связь.
Интернет дает группам общественности быструю возможность идентификации и самоопределения, которые очень трудно, а порой и невозможно сформировать в реальном пространстве. Исследователь К.Н. Попов пишет: «Положительный пример форума “Теплый Стан” показывает, что Интернет может стать долговременной площадкой, объединяющей людей для решения городских задач… Посредством контактов на таких форумах происходит вовлечение граждан в процесс самоуправления своей территорией» [Попов 2018: 48].
Благодаря Интернету сегодня можно успешно решать многие общественные и личные проблемы. Более того, индивиды в различных точках страны, у которых единая цель, могут превратиться в мощную силу и даже оказывать давление на субъекты политики как в положительном, так и в отрицательном плане.
К сожалению, Интернет нередко нивелирует усилия семьи, системы образования и государства, и эта его негативная роль может стать непредсказуемой и привести к нежелательным последствиям. Поэтому стоит согласиться с мнением, что «на самом деле цифровизация — это проблема прежде всего социально-политическая и социогуманитарная» [Чернышов 2018: 13].