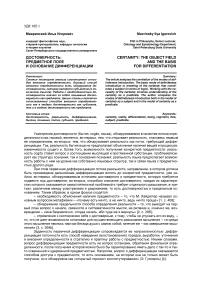Достоверность: предметное поле и основание дифференциации
Автор: Мавринский И.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 16, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу соотношения способов внесения определенности. Базовый способ внесения определенности есть обнаружение достоверности, которая является субъектом (в логическом смысле). Работа с необходимостью достоверности влечет за собой понимание достоверности как предиката. Целью статьи является сопоставление способов внесения определенности как в модели достоверности как субъекта, так и в модели достоверности как предиката.
Достоверность, реальность, дифференциация, бытие, познание, поток, субъект, предикат
Короткий адрес: https://sciup.org/14937404
IDR: 14937404 | УДК: 165.1
Текст научной статьи Достоверность: предметное поле и основание дифференциации
Summary: The article analyzes the correlation of the modes of definiteness introduction. The basic mode of definiteness introduction is revealing of the certainty that constitutes a subject (in terms of logic). Working with the necessity of the certainty involves understanding of the certainty as a predicate. The author compares the modes of definiteness introduction both in the model of certainty as a subject and in the model of certainty as a predicate.
Усмотрение достоверности (бытия, cogito, языка), обнаруживаемое в качестве истока определенности как таковой, является, во-первых, тем, что открывает реальность, становясь первым ее определением, во-вторых, тем, что обнаруживает реальность как поток, требующий дифференциации. Так, реальность бытия еще не предполагает объяснения наличия вещей и процессов, изменчивости сущего и, более того, возможности получения конкретной предметности; реальность cogito ставит вопрос о соотношении мыслящей и протяженной субстанции, проблематизи-рует как структуру сознания, так и основания познания; реальность языка предполагает возможность работы с ним на уровне как собственно языковых структур, так и связи языка с предметностью другого рода.
При этом первичная дифференциация потока реальности, направление, в котором должна быть произведена дальнейшая дифференциация вплоть до конкретной предметности, уже задана , во-первых, обнаруживаемым отличием достоверного и предметности, которую требуется подвести под достоверное, во-вторых, способом описания достоверного, каждая из характеристик которого оказывается самостоятельной проблемой и требует отдельного разыскания, в-третьих, различием между усмотрением и удержанием, то есть достоверностью и предельным основанием. Таким образом, в одном фокусе сходятся:
-
– необходимость объяснения наличия предметности – то, что М. Хайдеггер называл основным вопросом метафизики – «почему есть нечто, а не ничто, ведь ничто проще» [1, с. 408];
-
– обнаружение предельности способа определения реальности – то, что выводит на первый план вопрос о начале, связности и систематичности мысли, ее ритмике и, конечно же, возвращении – «мне безразлично, откуда начать, ибо туда же я вернусь» [2, с. 286];
-
– стремление к соотнесению себя с достоверным, к тому, чтобы не упускать его из виду, – то, что не дает возможности остановки для осуществляющего разыскание мышления – «и среди этого мышление явилось нам как беседа души с самою собой, мнение же – как завершение мышления» [3, с. 264b].
Заданность первичной дифференциации сопровождается ее направленностью : дифференциация поточности есть способ наведения (восстановления) порядка, выработки, уточнения и внесения определенности в стратегию и практику работы с предметностью. Иными словами, вопрос дифференциации предметности есть не вопрос остановки, обретения финальной определенности, после получения которой можно было бы гарантированно иметь дело с так-то и так-то схваченной и удержанной предметностью. Напротив, вопрос о дифференциации оказывается способом доступа к предметности, то есть основанием, на котором она не только может быть получена, но и обнаружена как «открытый горизонт конститутирования» (Э. Гуссерль) [4].
Способ доступа к предметности и оказывается тем, что обеспечивает целостность предметного поля, единство реальности и уверенность в наличии (возможности) порядка. Так, безотносительно к способу дифференциации предметности, она есть предметность, маркированная или обнаруженная в первичном определении реальности. Отсюда появляются формулы: все есть язык, тело, бытие, медиа и т. д. Первичное определение реальности, получаемое, как отмечалось, в усмотрении достоверности, полагает ее (реальность) как универсальное подлежащее всякой речи, мышления, действия. Способ работы с реальностью обнаруживает находимое в ней как связанное, то есть отсылает не к отношению «часть – целое», а к отношению «единое – иное», где именно единство оказывается условием инаковости. Иными словами, именно реальность, взятая в ее первичном определении (как реальность бытия, cogito, языка и т. д.), является условием возможности предметности, то есть подлежит модификации (есть разные способы существования, сознания, говорения). При этом так понимаемая реальность не подлежит предикации , то есть является универсальным субъектом, который именно в силу своей универсальности не может стать предикатом. Так, бытие не есть ничто из сущего, язык – ничто из речи, сознание – ничто из осознаваемого и т. д.
Очевидно, что удержание так понимаемой реальности оборотной стороной имеет определенную автономию дифференцированной предметности, которая в таком случае может быть схвачена в своей целостности через введение базовой (по отношению к конкретно усмотренной реальности) дифференции. Например, базовая онтологическая дифференция – бытия и сущего – обнаруживает именно поле сущего как в известной степени противостоящее бытию и требующее своей дифференциации, безотносительно к способу введения бытия, что с легкой руки Платона может быть названо «отцеубийством». То же самое можно сказать об обнаружении полей речи, активности сознания и т. д. Здесь может быть зафиксировано следующее: поточность, определяемая через оппозицию удержанному в своей достоверности способу определения реальности, требует дальнейшей дифференциации, лишь предполагая саму реальность в качестве горизонта. Этот процесс перехода от достоверности как способа определения реальности к работе с проблематизированным предметным полем является процессом формирования предельного основания, каковым является вторая часть оппозиции (сущее, речь, активность сознания).
Понятно, что в таком случае именно вторая часть оппозиции оказывается тем, что маркирует предметное поле, в котором, во-первых, должны быть выработаны способы и процедуры дальнейшей дифференциации, позволяющей осуществлять эту дифференциацию вплоть до конкретной предметности; во-вторых, будут найдены и разрешены проблемы, обнаруживаемые в описании достоверного; в-третьих, возможен порядок перехода от конкретно удержанного сущего к тому, чем задана как целостность предметного поля «сущее» – бытию, и к принципам, которым подчиняется это предметное поле.
То, что обнаруживает себя в поточности происходящего, требует выведения к реальности, обнаруживает себя как связь между частями базовой дифференции. Так, процедуры оказываются способом производства предметности, вписывая ее в порядок предметного поля: «Они выпускают ее из несуществования и тем самым ведут к полноте ее явления» [5, с. 224]. Разрешение проблем оказывается способом структурировать предметное поле и систематизировать, классифицировать предметность. Так, решение проблемы движения по Аристотелю ведет к классификации сущего, разработка структуры познавательных способностей И. Канта – к рубрикации содержания сознания. Наконец, конкретное сущее отсылает к способам определения сущего (категориям, логическим законам) и обнаруживает измерение бытия сущего, конкретная активность сознания через вопрос об условиях собственной возможности позволяет обнаружить формы, в которых она осуществляется, а вопрос о нем самом чреват тематизацией самосознания.
Таким образом, дальнейшая дифференциация поточности обнаруживает необходимость перехода от реальности достоверного как субъекта (подлежащего) к позиции реальности достоверного как предиката. Например, вопрос задается не о том, что есть бытие, а о том, что причастно бытию, что существует. В таком случае имеет место трансляция предельного усмотрения реальности на дифференцируемую предметность: порядок обнаруживается как условие возможности целостности предметного поля. Это сопровождается изменением отношений внутри базовой оппозиции. Мы переходим не от достоверного способа определения реальности к предельному основанию, но из способов работы с предельным основанием осуществляем реконструкцию достоверности. Так мы приходим к бытию из порядка сущего (М. Хайдеггер), обнаруживаем способы осознания времени через работу со звучанием конкретного тона (Э. Гуссерль), осуществляем истолкование (герменевтику) субъекта из поля повседневных практик (М. Фуко), видим истоки предметов мысли в конкретных исполнениях телесности (Ж. Делез).
Отличие первичной дифференциации поточности происходящего, заданное усмотрением достоверности, от вторичной дифференциации как конституирующей (и в определенном смысле поставляющей) предметность может в таком случае быть обнаружено и в измерении способов дифференциации, и в измерении того, кто эту дифференциацию производит, и, наконец, в результате этой дифференциации.
Способы первичной дифференциации отсылают к бинарности, предполагая представление предметности или обоснование ее данности, наличия, явленности через работу с достоверностью. Вопрос о сущем оказывается вопросом об определенности бытия, допускающей так данное сущее. Например, понимание Демокритом бытия как атома позволяет объяснить изменчивость сущего, а работа с cogito – прояснить наличествующие отношения в поле протяженного: «Что же касается чувственных вещей, мы не можем знать о них и не должны желать в отношении их ничего другого, кроме того, чтобы они могли согласовываться как друг с другом, так и с несомненными рациональными основаниями, и притом так, чтобы из прошлых [явлений] можно было в какой-то мере предвидеть будущие. Другой истины и другой реальности в указанных вещах мы не доищемся…» [6, с. 174]. Способы вторичной дифференциации, напротив, отсылают не к бинарности, но к распределенности в предметности того, что составляло предмет усмотрения достоверного. Объяснение в поле предметности ведется через работу с конкретной предметностью, которая отсылает к устройству предметного поля, его законам и принципам и лишь отсылает, как отмечалось, к усмотрению достоверности.
Результатом первичной дифференциации является в таком случае вовсе не конкретная предметность, но определенная модель, в рамках которой предметность как таковая оказывается объясненной в своих наличии, данности, явленности. Напротив, вторичная дифференциация результатом имеет процедуры, по которым конкретная предметность может быть не только получена, но и определена в этом способе получения. Стратегии вторичной дифференциации позволяют говорить не о тех или иных моделях, но о методах, посредством которых в том числе производится и интерпретация тех или иных моделей. Само предметное поле здесь оказывается полем такого истолкования, в процессе которого как найденная предметность, так и само его (поля) устройство доопределяются, уточняются, модифицируются. Ведущим принципом в отношении предметности здесь оказывается принцип полноты предметного поля и его устройства: «Поэтому высший принцип всех синтетических суждений таков: всякий предмет подчинен необходимым условиям синтетического единства многообразного [содержания] созерцания в возможном опыте» [7, с. 169], а не непротиворечивости: «Поэтому необходимо признать, что закон противоречия есть всеобщий и вполне достаточный принцип всякого аналитического знания, но далее этого его значение и пригодность как достаточного критерия истины не простираются» [8, с. 165]. Очевидно, что конституируемая таким образом предметность оказывается тем, что напрямую зависит от конкретных методологических процедур, способов собственного получения, то есть в конечном счете от выбора (или выработки) тех или иных процедур.
Ссылки и примечания:
-
1. Цит. по: Лейбниц Г.В. Начала природы и благодати, основанные на разуме // Лейбниц Г.В. Сочинения : в 4 т. М., 1982. Т. 1. С. 408.
-
2. Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 286.
-
3. Платон. Софист // Платон. Собрание сочинений : в 4 т. М., 1994. Т. 2. 528 с.
-
4. Мы отсылаем к конструкции, которую Э. Гуссерль использовал для характеристики вещи. В латинской традиции вещь – res – корень, от которого происходит реальность, на что, в частности, указывал и ученик Гуссерля – М. Хайдеггер. Подробнее об этом см.: Хайдеггер М. Тезис Канта о бытии // Время и бытие. М., 1993.
-
5. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие. М., 1993. С. 224.
-
6. Лейбниц Г.В. Замечания к общей части Декартовых «Начал» // Лейбниц Г.В. Сочинения : в 4 т. М., 1984. Т. 3. С. 174.
-
7. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собрание сочинений : в 8 т. М., 1994. Т. 3. С. 169.
-
8. Там же. С. 165.
Список литературы Достоверность: предметное поле и основание дифференциации
- Лейбниц Г.В. Начала природы и благодати, основанные на разуме//Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. М., 1982. Т. 1. С. 408.
- Парменид. О природе//Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 286.
- Платон. Софист//Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1994. Т. 2. 528 с.
- Хайдеггер М. Вопрос о технике//Время и бытие. М., 1993. С. 224.
- Лейбниц Г.В. Замечания к общей части Декартовых «Начал»//Лейбниц Г.В. Сочинения: в 4 т. М., 1984. Т. 3. С. 174.
- Кант И. Критика чистого разума//Кант И. Собрание сочинений: в 8 т. М., 1994. Т. 3. С. 169.