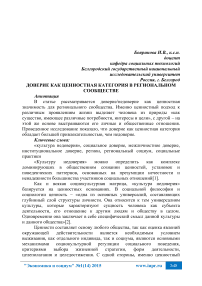Доверие как ценностная категория в региональном сообществе
Автор: Бояринова И.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-2 (14), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается доверие/недоверие как ценностная значимость для регионального сообщества. Именно ценностный подход к различным проявлениям жизни выделяет человека из природы «как существо, имеющее различные потребности, интересы и цели», с другой - на этой же основе выстраиваются его личные и общественные отношения. Проведенное исследование показало, что доверие как ценностная категория обладает большей привлекательностью, чем недоверие.
"культура недоверия", социальное доверие, межличностное доверие, институциональное доверие, регион, региональный социум, социальные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/140110886
IDR: 140110886
Текст научной статьи Доверие как ценностная категория в региональном сообществе
«Культуру недоверия» можно определить как комплекс доминирующих в общественном сознании ценностей, установок и поведенческих паттернов, основанных на презумпции нечестности и ненадежности большинства участников социальных отношений[1].
Как и всякая социокультурная матрица, «культура недоверия» базируется на ценностных основаниях. В социальной философии и социологии ценность – «одна из основных универсалий, составляющих глубинный слой структуры личности. Она относится к тем универсалиям культуры, которые характеризуют сущность человека как субъекта деятельности, его отношение к другим людям и обществу в целом. Одновременно она заключает в себе специфический смысл данной культуры и данного общества»[2].
Ценности составляет основу любого общества, так как оценка явлений окружающей действительности является необходимым условием выживания, как отдельного индивида, так и социума, являются основными механизмами социокультурной регуляции социального поведения, критериями выбора жизненной стратегии, форм деятельности, целеполагания и целедостижения. С одной стороны, именно ценностный подход к различным проявлениям жизни выделяет человека из природы «как существо, имеющее различные потребности, интересы и цели»[3], с другой – на этой же основе выстраиваются его личные и общественные отношения.
Иерархия ценностей задается основными концепциями о самом важном и значимом для человека, существующими в данной культуре. Как писал М. Хайдеггер, «ценность – это значимое, стоящее; только то, что значимо, - ценность. Но что значит «значимо»? Значимо то, что играет важную роль. Значимость есть род бытия. Ценность имеет место только в том или ином ценностном бытии»[4]. В этом своем качестве значимости ценности, наряду с доминирующими социальными потребностями и архетипами коллективного сознания, определяют содержание конкретных норм и оценок различных явлений социальной действительности[5].
Соответственно данным представлениям о роли ценностей, доверие/недоверие определяют базовое отношение человека к социальному миру, которое через установки трансформируется в конкретные социальные практики и отношение к нормам. Ценности – цели личности, формируют социальные установки, составляют «мотивационный остов человеческого поведения», сама категория цели определяется через ценности, «ценности имманентно содержатся в структуре цели, являясь ее высшими регулятивами»[6].
Результаты эмпирического исследования "Культура недоверия" в региональном социуме: факторы и социальные практики» (проведенного в 2012-2013 гг. в Белгородской области (N=962 респондента, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу поселения), показали, что доверие как ценностная категория обладает большей привлекательностью, чем недоверие. Нормативная значимость доверия для населения региона является весьма высокой. По мнению большинства (60,91%) респондентов, «доверие является необходимым условием существования общества». То, что «можно обойтись без него, достаточно лишь выполнения людьми своих гражданских и профессиональных обязанностей», считают лишь 22,45% опрошенных. Таким образом, доверие для массового сознания является ценностью – если не бесспорной, то достаточно значимой. Рассматривая его, по крайней мере, на нормативном уровне, как необходимое условие существования общества, респонденты выделяют доверию роль социального «клея». Но в то же время те 22,45% опрошенных, которые считают, что без доверия можно обойтись, закладывают в основание общества иные опоры. Для них, по-видимому, формальные отношения важнее неформальных, гражданство выше солидарности. Затруднились с ответом на данный вопрос 16,69% опрошенных.
Этот разрыв в оценках может являться фактором неудовлетворенности и даже стресса. Люди находятся в противоречивой ситуации, когда ценностная структура личности не может быть реализована в соответствующих поведенческих практиках. Но, как отмечалось ранее, декларируемая ценность доверия может лишь камуфлировать не вполне рационализируемые установки на недоверие. Именно последние могут служить реальной социокультурной основой социальных практик, в которых выражается социальное недоверие.
В особенности доверие как основание общества важно для женщин, 67,52% которых отметили эту позицию (против 52,29% мужчин). Соответственно, среди женщин меньше тех, кто считает, что без доверия можно обойтись (17,80%), чем среди мужчин (28,67%). Таким образом, уже на этом этапе исследования доверие предстает скорее фемининной характеристикой, недоверие – маскулинной.
Как несомненно позитивный факт, можно отметить то, что ценность доверия выше для молодежи – 67,40% респондентов 18-29 лет считает доверие необходимым условием существования общества. Второй по значимости показатель – у самой старшей возрастной группы – респондентов 60 лет и старше. У них соответствующая доля составила 61,84%. Показатели респондентов 30-39-ти и 40-59 лет практически идентичны (57,47% и 57,88%). То, что в обществе можно обойтись без доверия, посчитали: среди респондентов 18-29 лет – 20,26%, 30-39 лет – 27,59%, 40-59 лет – 21,52%, 60 лет и старше – 21,93%. То есть ценность доверия наиболее низка в самой активной социально-демографической группе. Соответственно, в ней же в наибольшей мере укоренены ценностные основания недоверия.
Однако при интерпретации приведенных данных следует учитывать также меньшую степень рефлексивности сознания молодежи. Не исключено, что, отмечая ценность доверия, на самом деле молодые люди оперируют своего рода социальными клише, оккупировавшими поверхностные слои их сознания. В действительности же, значимость недоверия как основы их установок может быть выше.
В поселенческом измерении ценность доверия выше для жителей городов с населением менее 100 тыс. человек и поселков городского типа. Из данной группы респондентов о том, что доверие является необходимым условием существования общества, сказали 64,49%, и что без него можно обойтись – 17,14%. Жители села – на втором месте по нормативной значимости доверия (60,49% - «необходимо» и 22,22% - «можно обойтись без него»). Для жителей города с населением свыше 100 тыс. человек доверие представляет наименьшую ценность (59,08% - «необходимо» и 26,09% - «можно обойтись без него»). Это является вполне логичным следствием атомизации людей в высокоурбанизированной местности, деградации социальной микросреды, разрыва соседских, а зачастую и родственных связей. Но с другой стороны, такая позиция значительной части жителей крупных городов отражает индивидуалистическую культуру, для которой формализация и деперсонализация отношений является способом оптимизации социальных связей.
На нормативную ценность доверия позитивно влияет образование. Так, среди респондентов с незаконченным высшим и высшим образованием доверие необходимым условием существования общества считают, соответственно, 64,18% и 64,23%. У респондентов со средним и среднеспециальным образованием эта доля ниже на 9-10 п.п. – соответственно, 54,41% и 55,85%. Но характерно, что удельный вес респондентов, высказывающих противоположную точку зрения, во всех группах приблизительно одинакова – от 21,41% у респондентов с высшим образованием до 23,53% - со средним. Ощутимо различается доля когнитивно некомпетентных респондентов: самая высокая – 22,06% - у лиц со средним образованием, самая низкая – 9,95% и 12,01% - у обладателей незаконченного высшего и высшего образования (таблица 12).
Меньшая ценность доверия для менее образованных групп противоречит высказанной ранее гипотезе о том, что установка на недоверие может быть следствием целенаправленной рефлексии. А такого рода рефлексия в значительной степени связана с образованием. И, скорее всего, в данном случае для объяснения формирования культуры недоверия больше подходит другой фактор – фрустрации в результате не вполне удачных социальных контактов.
Несколько более высокой ценностью доверия отличаются респонденты, по уровню материального благосостояния занимающие срединную позицию – те, кому «денег хватает на продукты и одежду, иногда – на покупку бытовой техники». Из них доверие считают необходимым условием существования общества 63,61% (по выборке в целом – 60,91%), а то, что можно обойтись без него – 17,35% (по выборке в целом – 22,45%). В остальных социоэкономических группах соответствующие мнения распределены относительно равномерно. Тем не менее, можно отметить снижение ценности доверия в группе тех, кому «денег хватает на продукты, иногда – на покупку одежды». Из них считают доверие необходимым условием существования общества 57,23%. Противоположное мнение – у 27,71% респондентов (таблица 13). Вряд ли можно утверждать в данном случае о каких-либо значимых корреляциях. Зависимость ценностных представлений о доверии и соответствующих установок от уровня благосостояния требуют дальнейшего анализа.
Что является более значимым фактором, так это характер религиозной самоидентификации респондентов. В соответствии с рабочей гипотезой исследования, религиозность, в основе которой - вера в трансцендентальное, имеет прямое отношение к социальному доверию, в основе которого находится вера (уверенность) в то, что поведение людей и функционирование институтов предсказуемы и позитивны по своим последствиям. Такая вера также в определенной мере иррациональна и не основана на чувственном опыте. К тому же признание себя верующим для части людей (хотя и не такой уж большой) означает самопричисление к общине, связи с участниками которой по определению глубже и прочнее, нежели за ее пределами. А для истинно верующего человека, испытывающего чувство прозелитизма, потенциальной общиной является все сообщество.
Данные опроса подтвердили значимость фактора религиозной самоидентификации. Хотя здесь нужно сразу оговориться, что подавляющее большинство респондентов – 82,85% - идентифицировало себя с верующими (58,52%) и скорее верующими (24,32%) людьми. Доля опрошенных с противоположной идентификацией составила всего 11,44% (по 5,72% -неверующие и скорее неверующие). Таким образом, небольшой объем подвыборок неверующих и скорее неверующих респондентов не позволяет делать статистически корректные выводы. Тем не менее, можно утверждать, что религиозная самоидентификация выступает явным коррелятом нормативной значимости доверия.
Ценность доверия плавно снижается по мере «атеизации» респондентов. Если у тех, кто идентифицировал себя, как верующего, сторонников точки зрения о том, что доверие является необходимым условием существования общества, составила 65,72%, то у скорее верующих – 58,12%, скорее неверующих – 56,36%, неверующих – 41,82%. Соответственно, по мере уменьшения религиозности, растет доля считающих, что без доверия в обществе можно обойтись: верующие – 18,47%, скорее верующие – 23,93%, скорее неверующие – 27,27%, неверующие – 47,27%. Причем, у последних вторая точка зрения превалирует, что резко выделяет ее из всей выборочной совокупности.
Список литературы Доверие как ценностная категория в региональном сообществе
- «Культура недоверия» в региональном социуме: монография/Е.В. Реутов, Л.В. Колпина, М.Н. Реутова, И.В. Бояринова. -Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. -176 с.
- Лапин Н.И. Традиционные и либеральные ценности в современном российском обществе//Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Степина. М.: Канон+, 2004. С. 740.
- Тугаринов В.П. Избранные философские труды. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. С. 256.
- Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления/пер. с нем. М.: Республика, 1993. С. 71.
- Дубов И., Ослон А., Смирнов Л. Экспериментальное исследование ценностей в российском обществе//Десять лет социологических наблюдений. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 543.
- Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей//Психологический журнал. 1992. № 2. С. 113.