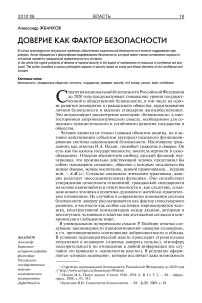Доверие как фактор безопасности
Автор: Жбанков Александр Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности в аспекте поддержания мер доверия. Автор обращается к философским модификациям безопасности, которые имеют своим основанием социально-этические элементы гражданской доверительности и согласия.
Безопасность, гражданское общество, личность, государство, доверие
Короткий адрес: https://sciup.org/170165478
IDR: 170165478
Текст научной статьи Доверие как фактор безопасности
С тратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года предусматривает повышение уровня государственной и общественной безопасности, в том числе на основе развития демократии и гражданского общества, гарантирования личной безопасности и высоких стандартов жизнеобеспечения1. Это актуализирует рассмотрение категории «безопасность» в многостороннем антропоцентрическом смысле, необходимом для социально-гуманистического и устойчивого развития государства и общества.
Человек является не только главным объектом защиты, но и активно действующим субъектом (актором) надежного функционирования системы национальной безопасности. Настоящему гражданину, как отмечал И.А. Ильин, «подобает уважение и доверие . Он есть как бы камень государственности; носитель верности и самообладания». Отвергая абсолютную свободу, русский философ подчеркивал, что произвольно действующий человек представлял бы собою «кошмарное создание», общение с которым «исключало бы всякое доверие , всякое воспитание, всякий правопорядок… (курсив мой. – А.Ж. )»2. Согласно социально-этическим трактовкам, доверие реализует «воссоединительную функцию». Оно способствует утверждению целостности отношений, гражданской солидарности на основе взаимозаботы и ответственности и, как следствие, созданию нового человека в политико-духовном и житейски-практичес-ком отношениях. Не случайно в современном понимании системы безопасности доверие рассматривается как фактор геокультурного развития, в частности как особое состояние мировосприятия человека, конструктивной коммуникации между людьми, акторами и институтами, человеком и властью для достижения согласия и компромиссов в глобальном мире3.
В универсальном историческом смысле Р. Полборн отмечал следующие закономерности взаимоотношений «доверия-недоверия», в т.ч. противоречивого соотношения добросовестности и обмана. В условиях недемократической власти происходит стремительное погружение в недоверие («никому доверять нельзя»), атмосферу подозрительности по отношению к любой информации (не случайно это приводит к «одиночеству власти»). В результате оформляется «спираль недоверия», которая исключает даже возможность оспаривать собственное недоверие1. Недоверие всегда начинается с осторожности и сомнения («оказывается, не все так просто», «разве можно этому верить») и является следствием излишней доверительности на основе привычного диагноза отношений в ожидании обмана.
Отмеченные Р. Полборном закономерности иллюстрируются примерами советского периода. Лозунг «беззаветной преданности делу партии и государства» не только сопровождался маниакальной подозрительностью и массовыми репрессиями, но и прерывался разоблачением высших государственных деятелей (не случайно в народе ходила поговорка: «Товарищ Берия вышел из доверия»). Важно понимать, что о доверии как о политическом факте можно говорить только в системе, в которой появляется взаимность отношений. Поэтому традиционное понимание «оттепели» 1960-х гг. следует связывать не только с ростками свободы, но и с наступлением по-настоящему новой фазы доверия как цели общественного развития, причем именно в системе взаимного доверия власти и граждан. Официально признаваемое единодушие народа после периода стагнации 1970-х сменяется фазой «романтической доверчивости» к целям перестройки середины 80-х гг., которая переходит в полное доверие новому российскому лидеру демократических преобразований в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Политическая устойчивость современного российского государства объясняется высоким доверием к ее лидерам.
В коммуникативной теории власти Н. Лумана повседневная гражданская жизнь общества предполагает «нормализованную власть». Качество выбора «за» или «против» в отношении властных действий образует «фасад власти», который попадает в зависимость от точности схем протекания желаемых действий. О позитивности властных решений можно говорить, если они устремлены в открытое пространство будущего. При этом истины общественно-политического поведения «диалекти-зируются» в такие его проявления, как обман, лавирование, увертки и т.д.2 В работе «Социальные системы» Н. Луман анализирует доверие как фундаментальную ос- нову действия. Безопасность и надежность предстают следствием ответного действия власти на «оказанное доверие», проявляются в понижении опасностей рисков, когда предусмотрены и учтены возможные случайности, порядок поддерживается доверием. Переход от недоверия к доверию властным органам осуществляется процессуально, эволюционно, в т.ч. с фрагментами издержек прежнего недоверия на основе возрастающего значения государственного управления и права. Как подчеркивает Н. Луман, доверие должно оказываться в границах равной однородности, т.е. добровольно. Его нельзя отождествлять с жизненным оптимизмом или ситуациями опасения несчастий – это последовательность развития социальных отношений, которые начинаются с взаимных рисков. Доверие гарантировать легче, если оно требуется с обеих сторон – так, чтобы доверие одной стороны (власти или граждан) могло найти поддержку у другой. Н. Луман настаивает на «циркулярном характере» доверия как основании образования систем, из которых черпаются его силы. В итоге доверие является «универсальным социальным фактом» в отношении создания стратегии надежности, определения ее запасов, хотя и при наличии элементов взаимного риска3.
Понимание доверия как политико-властной стратегии со значительным радиусом действия можно сопоставить с рассмотрением Э. Гидденсом «базисного доверия против недоверия». Формирование чувства доверия взаимосвязано с осознанием конкретной деятельности, в т.ч. для сохранения целостной личности и непрерывного воспроизводства социальной системы. Э. Гидденс полагает, что «однообразие жизненно важно для функционирования психологических механизмов, посредством которых в ходе повседневной деятельности удовлетворяется потребность в надежности или онтологической безопасности». Использование понятия «онтологическая безопасность» ориентирует на понимание безопасности в плане обеспечения защиты отдельного человека, преодоления его онтологической неустойчивости. Речь идет о конфиденциальности или доверии, «которые являют собою природный и социальный миры, включая базовые экзистенциальные параметры самости и социальной идентичности»1. Российский исследователь Н.М. Мамедова также полагает, что «онтологическая безопасность личности предполагает чувство доверия и ощущение собственной аутентичности, верности своему “Я”»2.
Согласно В.Е. Кемерову, онтологическое воззрение на человека создает своего рода «картину» позиций и ориентаций «частных» и внутренних видов деятельности. Оно тем самым надстраивается над общефилософским пониманием, но одновременно помогает более четко проявить очертания социально-исторических и социокультурных условий жизнедеятельности. Онтологические схемы есть взаимосвязанное бытие людей, обнаружение «ядерных» сил и структур социального процесса3. Но не случайно И.А. Ильин подчеркивал, что человек, не способный принять ответственность за совершенное и признать свою ошибку, «сам себе не доверяет, а потому и ему не следует доверять». Это значит, что меры и средства обеспечения безопасности требуют именно «онтологической работы», которая реализует интегрирующую функцию действительности («того, что есть на самом деле») как места соотнесения общественных смыслов, целей, ценностей4.
В широком смысле безопасность экзистенциальна, поскольку защите подлежит само существование общества и человека. Так, повседневные встречные потоки людей в столичном метро с точки зрения экзистенциализма означают общение «мимо друг друга», движение «лиц без примет». Но такое происшествие, как террористический акт, демонстрирует отсутствие «разрыва» взаимосвязей между людьми в трагическом пространстве. Речь идет не просто о настроениях гнева, подвижности настроений, но о появлении гражданских императивов не пренебрегать социально-гуманистическими обязанностями. Люди ощущают существование общей человеческой судьбы (именно как экзистенции). Совместная работа понимания и переживания превращает событие в факт личной биографии, что и порождает силы сопротивления внутри человека, хотя это одновременно выявляет «разных» людей. Подобная поведенческая установка («изготовка») создает социально-нравственный фундамент предотвращения опасностей не только рациональным путем, но и на основе нового мировосприятия, отказа от оправдания прежней безучастности и неспособности прямого личностного действия. Это именно «мой выбор», «мое событие», «мое участие». Истинное со-действие означает не только проявление бдительности, но и способность заново открывать себя. В результате чуткость экзистенциального зрения утверждает новую типичность доверия как отсутствие наивного, «прогрессистского» отношения, заставляет действовать без самообольщения и быть «кем-то иным» по сравнению с прошлыми обстоятельствами, привычным ходом вещей.
По аналогии могут быть с достаточным основанием выделены другие философские модификации безопасности. Среди них:
– феноменологическая безопасность как действия во «взаимности перспектив», когда сокращаются пределы взаимодося-гаемости (как синонимичной доверительности);
– антропологическая безопасность в условиях дефицита доверия, обращенная к целостности личности, структурам специфического опыта «человеческого в человеке» (а значит, способности встать над личными обидами, узкоэгоистическими интересами);
– персонологическая безопасность как особое субъективное связующее единство, переживание «другой» жизни в качестве ценности, духа ответственности «быть вместе».
Но эти виды безопасности требуют особого рассмотрения.