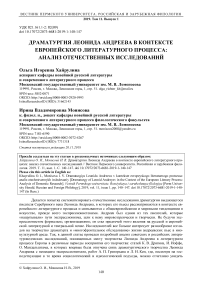Драматургия Леонида Андреева в контексте европейского литературного процесса: анализ отечественных исследований
Автор: Хайрулина Ольга Игоревна, Монисова Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Делается попытка систематизировать отечественные исследования драматургии выдающегося писателя Серебряного века Леонида Андреева, в которых его пьесы рассматриваются в контексте европейского литературного процесса и связываются с общеевропейскими и мировыми тенденциями в искусстве, прежде всего экспрессионистскими. Андреев был одним из тех писателей, которые «нащупывали» пути экспрессионизма, шли к нему мировоззренчески и творчески. Не будучи экспрессионистом формально, организационно, он стал предтечей этого явления на русской и европейской литературной и театральной почве. Исследователей все больше интересует разнообразие взглядов на творчество драматурга и «многофронтальное обследование» жизни андреевских пьес в инокультурной среде. Так, в данной статье проведен подробный анализ советских и российских литературоведческих исследований, посвященных месту творчества Леонида Андреева в литературном процессе Европы в различные периоды восприятия его творчества: статей К. В. Дрягина, И. Иоффе, О. Мандельштама, в которых впервые была озвучена связь драматургического творчества Леонида Андреева с немецким экспрессионизмом, работ А. П. Григорьева и Л. Н. Кен, где, несмотря на господствующие в то время социологический и идеологический подходы, можно отчетливо увидеть преемственность взглядов на творчество Леонида Андреева как на предвещающее экспрессионизм явление, а также современных нам научных исследований В. В. Смирнова, Н. А. Бондаревой и Г. Н. Боевой, в которых проводятся уже более смелые параллели с драматургией европейских авторов конца ХIX - начала ХХ в.
Драматургия л. андреева, инокультурная среда, европейский контекст, рецепция, экспрессионизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147226945
IDR: 147226945 | УДК: 821.161.1-2: | DOI: 10.17072/2037-6681-2019-1-140-147
Текст научной статьи Драматургия Леонида Андреева в контексте европейского литературного процесса: анализ отечественных исследований
Обращаясь к анализу творческого метода Леонида Андреева, в том числе и в драматургии, исследователи констатируют сложность и неоднозначность его связей с современными ему литературными течениями и направлениями, а также перманентную творческую эволюцию писателя. На протяжении всего творческого пути менялись его видение литературы, подходы к изображению внешней действительности и внутреннего мира героя, черты стиля и метода. Он прошел путь в драме от философского (в авторском определении, «ретушированного») реализма до «панпсихизма», а позднее исследователи будут причислять его зрелое творчество к экспрессионизму. Андреев был одним из тех писателей, которые «нащупывали» пути экспрессионизма, шли к нему мировоззренчески и творчески. Не будучи экспрессионистом формально, организационно, он стал предтечей этого явления на русской и европейской литературной и театральной почве. «Крик недоумевающего ужаса срывается с уст его героев» [Белый 1994: 439], – писал о творчестве Андреева А. Белый; «безвыходность отчаяния… в Леониде Андрееве является нам в виде… крика», ему «доступны только высшие ноты напряжения звука», – утверждал М. Волошин [Волошин1907: 3]. Отметим созвучность этих оценок названию серии полотен «Крик» (1893–1910) раннего экспрессиониста Эдварда Мунка. Этим криком одиночества, отчаяния, отчуждения человека было проникнуто все экспрессионистское течение в искусстве, запечатлевшее болезненную реакцию сознания на уродства цивилизации. Напомним, что именно с крика рожающей женщины начинается и криком проклятия завершается пьеса «Жизнь человека», принесшая Андрееву мировую известность. Крик выступает как извещение о рождении новой жизни, обреченной на муки, он символически предвосхищает всю дальнейшую жизнь Человека и снова звучит в отчаянном и бессильном протесте против Судьбы, лишившей его единственного сына.
Мы попытаемся систематизировать те исследования отечественных филологов, в которых драматургия Леонида Андреева рассматривается в русле общеевропейских и мировых тенденций в искусстве. Одним из первых прокомментировал типологическую близость пьес Л. Андреева и немецких экспрессионистов и вообще заговорил об Андрееве как об экспрессионисте литературовед К. В. Дрягин, опубликовавший в 1928 г. статью «Экспрессионизм в России». Он отмечает, что вопрос о русском экспрессионизме не разработан, поэтому дать картину его развития пока невозможно. «Характернейшие проявления экспрессионистского стиля» можно наблюдать, по его мнению, в типе «леонидоандреевского интеллигента с его издерганными нервами и вечноподавленным состоянием» [Дрягин 1928: 324]. «В метаниях от бытового до ирреалистическо-го», пишет автор, Андреев пришел к некоему новому стилю, причем именно в драме он значительно отступает от традиций символизма и протягивает руку позднейшим течениям. Дрягин выделяет такие черты нового стиля Андреева, как отвлеченная мысль и ирреализм. «Царство голой мысли» и элементы фантастики в драме позволяют, как полагает автор работы, сопоставить пьесы Андреева по методу построения и некоторым чертам стиля с драматургией Георга Кайзера, одного из наиболее известных в то время немецких экспрессионистов. Среди черт, присущих этим художникам, в том числе андреевскому творчеству, Дрягин предлагает выделить алгебраизацию, т. е. сведение конкретного к отвлеченной сущности, вещи к понятию, где образ предстает как логическое и диалектически точное выведение следствий. Термин «алгебраиза-ция» как нельзя лучше подходит к определению типа андреевского повествования и драматургического сюжетосложения, где собирательные образы и обобщенные ситуации являются доминирующими. В этом плане, как подчеркивает Дрягин, на русской почве наиболее близка Андрееву пьеса В. В. Маяковского «Мистерия-Буфф». Среди стилистических приемов драматургии Андреева исследователь выделяет прием схематизации: «Вместо живой личности – отвлеченный тип как сумма нужных и важных с его точки зрения черт» [там же: 328]. Отметим, что все сказанное приложимо не только к драматургии Кайзера, Толлера, Андреева и других драматургов, стоявших у истоков экспрессионизма, но и к творчеству поздних представителей этого стилевого направления в искусстве. Чаще всего Андреев-драматург попадает в исследованиях не только русских, но и немецких ученых в один контекст с младшим современником Э. Толле-ром, а его условно-аллегорические пьесы, осо- бенно «Жизнь человека», традиционно сопоставляются с пьесой Толлера «Человек-масса». Образы героев здесь также предельно обобщены и схематизированы, персонажи лишены собственных имен (Женщина, Безымянный, Муж, Рабочие, Банкиры, Тени расстрелянных и т. п.). Как и у Андреева, группа персонажей реализует в сцене единую мысль – полилог фактически становится монологом персонажа-массы. Диалоги в пьесах обоих авторов часто содержат немотивированные переходы от одной темы к другой, не всегда реплика является ответом на предыдущую, «распад диалога» (и Дрягин вскользь упоминает об этом) подчеркивает мысль драматургов о хаотичности, абсурдности жизни, что свидетельствует о влиянии на драматургов некоторых принципов «новой драмы».
Нельзя пройти мимо того факта, что близость названных драматургов отмечалась и раньше, в частности литераторами. Так, на русский язык пьеса «Человек-масса» была переведена почти одновременно Адрианом Пиотровским и Осипом Мандельштамом. Через год вышла статья О. Мандельштама «Революционер в театре», посвященная названной пьесе Э. Толлера и ее влиянию на современную русскую литературу. Мандельштам сравнивает ее с андреевской «Жизнью Человека», относя оба текста к типу драматических произведений, «сильных и элементарных, понятных всем и каждому благодаря ясной схематичности действия и грубой, но яркой символике воплощения» [Мандельштам 1993: 283]. Разводя пьесы тематически, автор статьи отмечает прежде всего близость их поэтики.
Схематизацию как принцип построения драмы нового типа Дрягин усматривает и в основе других компонентов пьес, например, элементов интерьера, архитектурных форм сценического пространства, указанных в ремарках (такова в пьесе «Жизнь человека» «четырехугольная комната», выдержанная в «серой, дымчатой» монохромной гамме. Дрягин говорит и о приеме гиперболизации у Андреева и в типологически близких ему пьесах европейских драматургов. Человек практически лишается связи с реальной социальной средой; в описаниях преобладают однотонные цвета: черный, белый, синий; герои представляют собой подчеркнуто овнешненные фигуры с геометрическими пропорциями или линиями лица («крутой подбородок, твердо сжатые губы», «пять сгорбленных старух» – «Жизнь человека»). Как правило, во внешности персонажа (группы) выделяется и гиперболизируется одна черта, которая нередко становится лейтмотивом. Приведенный выше элемент описания наружности персонажа Некоего в сером повторяется в авторских ремарках несколько раз. В пьесе
Андреева «Царь Голод» схематизируется и гиперболизируется по тому же принципу образ рабочих. Данные черты, по мнению Дрягина, сближают Андреева-драматурга с М. Метерлинком (на эту связь будут указывать позднее многие русские и западноевропейские исследователи творчества Андреева). Дрягин упоминает в этой связи пьесу Метерлинка «Слепые» (1890), в которой двенадцать слепых являют собой обобщенносимволический образ человечества, оставленного Богом, слепого и беззащитного. Резюмируя исследование Дрягина, важно отметить, что он одним из первых рассмотрел творчество Андреева, в том числе драматургию, в контексте современной писателю западноевропейской литературы, что, безусловно, очень важно.
Назовем еще одну работу, вышедшую за год до статьи Дрягина. Драматургия Андреева в связи с общеевропейскими модернистскими тенденциями упоминается в ней при разговоре о театре и кинематографе и анализируется не так подробно, однако важен сам факт помещения пьес русского драматурга в этот контекст. Речь идет о монографии И. Иоффе «Культура и стиль» 1927 г. Ее автор отмечает такие черты драматургии Андреева, как заостренность и философичность мысли, гротескность форм, поэтика цветовых контрастов, схематизм образов, статичность картин. Причем Иоффе вынужден «защищать» Андреева от имевших место обвинений в художественной ущербности и безвкусице. Он, как и Дрягин, говорит о своеобразии творчества писателя и видит в указанных чертах его художественной манеры отражение принципов экспрессионизма.
Вскоре в советском литературоведении возобладал социологический и идеологический подход к фактам культуры и искусства. И если при этом устанавливались аналогии с западным модернизмом, то градус оценки произведения только понижался. Именно в этом ключе написана статья Б. Михайловского «Творчество Леонида Андреева», представленная в книге «Русская литература ХХ века» 1939 г. А затем Андреев как писатель-эмигрант на долгое время был исключен из истории русской литературы. Реабилитация творчества писателя, начавшаяся к концу 50-х гг. (назовем в этой связи книгу Л. Н. Афонина «Леонид Андреев» 1959 г.), привела к заметному оживлению в изучении его произведений, в том числе благодаря снятию многих идеологических барьеров и в интересующем нас аспекте. Среди работ этого периода выделяется статья А. П. Григорьева «Леонид Андреев в мировом литературном процессе», которая была опубликована в 1972 г. в журнале «Русская литература». Григорьев, можно сказать, продолжает «линию» Дрягина, во многом опираясь на идеи и структуру работы предшественника. В первую очередь он подчеркивает тот факт, что Андреев предвосхитил экспрессионизм как международное художественное явление. Эта мысль, как и в работе Дрягина, проходит через всю статью Григорьева, подкрепляемая новыми фактами. Так, ученый раскрывает специфику экспрессионизма Андреева на примере рассказа «Красный смех» и пьесы «Царь Голод», выделяя такие черты, как «отказ от бытового жизнеподо-бия, обращение к условным, обобщенным до предела, гиперболизированным, эмоционально насыщенным, полным внутреннего движения образам, с помощью которых он [Андреев] стремился выразить самую суть жизненных явлений» [Григорьев 1972: 51]. Исследователь обобщает отдельные оценки и замечания андреевских современников относительно особенностей его творчества, о котором В. Львов-Рогачевский писал: «Где у Чехова чуть-чуть, там у Андреева чересчур» [Львов-Рогачевский 1923: 71]. Особое внимание в статье Григорьева уделяется пьесам писателя, он считает, что «художественные искания Андреева настойчиво проявились в первую очередь в драматургии» [Григорьев 1972: 7], и приводит в этой связи оценки К. И. Чуковского, которого восхищала смелая манера Андреева, «площадная эстетика», «экспрессивность». Григорьев рассматривает пьесы «Царь Голод», «Анатэма» и «Жизнь человека» как последовательные этапы пути к созданию философско-символической драмы. Он снова ссылается на мнения современников Андреева – М. Горького, А. Н. Луначарского. Они считали «Жизнь человека» плодотворной попыткой автора создать новую форму драмы, а драматургию Андреева в целом – «блестящим примером того, чем должна быть истинная философская драма», – т. е. «философией в образах» [Луначарский 1965: 155]. Можно сказать, что в этой статье немаловажной оказывается и проблема рецепции, хотя Григорьев специально ее не комментирует, но учитывает при анализе момент восприятия пьес современниками. Проводя параллели между Андреевым и европейской драматургией, ученый устанавливает аналогии с такими произведениями, как «Пер Гюнт» Г. Ибсена, трилогия К. Гамсуна «У врат царства» – «Драма жизни» – «Закат». Также Григорьев подчеркивает типологические «сцепления» Андреева с М. Метерлинком и Л. Пиранделло, отмечая успех его пьес в Италии.
Особое внимание уделяет Григорьев сопоставлению театрально-драматургических принципов и произведений Андреева с немецкой драматургией. Так, автор считает, что русский писатель предвосхитил некоторые театральные идеи Б. Брехта. Он цитирует Андреева: «Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он стоит перед картиной, что он в театре и перед ним актеры» [цит. по: Григорьев 1972: 190]. Это почти точная формулировка брехтовского принципа «остранения» –Verfremdungseffekt – (буквально: эффект остранения, очуждения), одного из основополагающих моментов его концепции эпического театра. Андреев не раз в своих письмах акцентировал внимание на принципиальной условности происходящего в его пьесах, называл их «представлениями» и отмечал, что «в этом представлении сцена должна дать только отражение жизни». «Предпосылкой для возникновения отчуждения, – писал Брехт, – является следующее: все то, что актеру нужно показать, он должен сопровождать отчетливой демонстрацией показа» [Брехт 1965: 102]. Наряду с концептуальным и конструктивным сходством драматургов Григорьев также отмечает различия: целью театра Брехта является пробудить у зрителя желание изменить мир, а в пьесах Андреева чувствуется скорее отпечаток фатализма. В то время как Брехт практически полностью отказывается от мистики, Андреев смешивает ирреальное с реальным, символический план с конкретным.
Важный факт и то, что исследователь упоминает в своей работе труды зарубежных критиков о творчестве Л. Андреева. Например, выделяет работу немецкого исследователя М. Беверниса «К восприятию Леонида Андреева в Германии», опубликованную в 1966 г., и исследование А. Кауна «Леонид Андреев», написанное в 1924 г. в США. Таким образом, Григорьев одним из первых заговорил о рецепции творчества Андреева после того, как вульгарно-социологические взгляды на немецкий экспрессионизм были преодолены и облик Андреева как писателя, некоторыми сторонами своего творчества предвосхитившего левое движение в экспрессионизме, стал заново проясняться.
В 1975 г. в Курске выходит «Андреевский сборник», в который была включена статья Л. Н. Кен «Леонид Андреев и немецкий экспрессионизм». В ней исследователь ставит перед собой задачу определить тип творчества писателя. В разрешении данного вопроса она обращается к опыту предшествовавших исследований и оценкам современников писателя. Так, Кен констатирует, что Вересаев, Горький и Чуковский находили «признаки глубоких самобытных произведений Андреева» [Кен 1975: 47], приводит высказывания и отзывы о творчестве Андреева некоторых исследователей начала ХХ в. В 1923 г., когда в России были изданы пьесы немецких экспрессионистов Г. Кайзера («Коралл») и
Э. Толлера («Человек-масса»), в предисловиях к ним и рецензиях отмечалась близость с драматургией Андреева. Так, А. Пиотровский в предисловии к пьесе Толлера писал, что многие черты экспрессионизма уже были знакомы русскому читателю, в частности, по творчеству Л. Андреева и «суховатая схематичность Толлера близка к манере Леонида Андреева». Б. Гимельфарб, автор предисловия к пьесе «Коралл» Г. Кайзера, проводит те же аналогии: «Леонид Андреев в «Жизни человека» тоже дал схематичное линейное изображение «философии», но с гораздо большей монументальностью. Только его манера не называлась тогда экспрессионизмом». Далее Кен обращается к работе К. В. Дрягина, анализируя ее как одну из важнейших для понимания явления экспрессионизма на русской почве, а также делает обзор творческого наследия немецких экспрессионистов, отмечая свойственные им черты: «острое восприятие общественной ломки, подлинное страдание за себя и все человечество, стремление поведать миру о своей тревоге за судьбы людей, приобщить окружающих к своим мыслям и чувствам» [Кен 1975: 50]. Важно заметить, что в статье Кен предпринята попытка посмотреть на экспрессионистское творчество Андреева с точки зрения рецепции его произведений в России и Германии. Не располагая какими-либо определенными свидетельствами о связях Андреева с экспрессионистами, она предполагает, что немецкие писатели могли читать произведения Андреева и видеть их постановки на сценах Германии. Но в любом случае, по мнению Кен, можно «поражаться удивительной перекличке мыслей, идей, образов, приемов» [там же: 53]. Среди таких художественных приемов автор выделяет прежде всего однолинейность в изображении характеров и душевных состояний; специфическую (как правило, контрастную) цветопись и звукопись; «жесткие изломы»; преднамеренность, заданность в резком противопоставлении образов; гиперболизацию; намеренное нарушение пропорций; прием монтажа.
Учитываются, хотя и подробно не разбираются экспрессионистские тенденции в творчестве Андреева в исследованиях Ю. В. Бабичевой, Ю. В. Беззубова, В. А. Келдыша, Л. А. Иезуито-вой. В 1997 г. в журнале «Русская литература» выходит статья В. В. Смирнова «Проблема экспрессионизма в России. Андреев и Маяковский». Автор статьи проводит типологическое исследование творчества Андреева и Маяковского в аспекте экспрессионизма. Смирнов видит своей задачей рассмотреть экспрессионизм в России как особый художественный метод, связанный с новым типом сознания рубежа XIX–XX вв. Он определяет экспрессионизм как «перманентную психологическую катастрофу, иррационализм, предельную эмоциональность сознания, длящийся «крик» – переживание окончательной всеобъемлющей утраты и абсолютного одиночества» [Смирнов 1997: 61]. Данное определение указывает и на связь с философией и литературой экзистенциализма, так как идея «абсолютного одиночества» возникала также в работах А. Камю и Ж. П. Сартра. Упоминание Смирновым этой черты экзистенциализма в контексте экспрессионизма позволяет утверждать, что эти два литературных явления имели общую основу. Говоря об экспрессионизме как о явлении искусства, автор статьи не раз делает акцент на том, что переживания, эмоции и аффекты являются «единственной несомненной истиной произведения», а иррациональное сознание экспрессиониста не акцептирует действительность как систему значений. Целью экспрессионизма, по мнению Смирнова, является «воплощение сна кошмарного и райского» [там же: 58], и это мотивирует обращение художников к гротескным формам. Напомним, что до середины ХХ в. термин «гротеск» употреблялся в литературе и искусстве применительно к творчеству Гофмана, Гоголя, Босха, Гойи, но в 50–60-е гг. ХХ в. понимание данного термина претерпевает изменения и расширяется. Это связано с публикацией в 1957 г. в Германии работы Вольфганга Кайзера «Гротеск: его воплощение в живописи и литературе» и выходом в 1965 г. книги М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Cред-невековья и Ренессанса» (глава «Гротескный образ у Рабле и его источники»). Возвращаясь к статье Смирнова, отметим те черты мировоззрения и творчества Андреева, которые, по мнению исследователя, позволяют отнести его к экспрессионистам. Кроме личностных черт писателя, таких как самоощущение «изгоя» и «отщепенца», неприкаянность и «чувство постороннего», он подчеркивает религиозность писателя, «острое ощущение присутствия в мире дьявола» [Смирнов 1997: 61], а также ирреальность замысла многих его произведений, стремление показать не событие, а его «настроение», что мотивирует обращение к форме отрывка, аллегоричность, схематизм и плакатность текстов. Таким образом, Смирнов в своей статье уверенно причисляет Андреева к писателям экспрессионистской направленности.
В последние годы интерес к творчеству Андреева среди исследователей русской литературы, и драматургии в частности, не снижается. Особо отметим диссертации, посвященные теме влияния экспрессионизма на творчество Л. Андреева и сопоставительному исследованию его пьес с немецкой драматургией ХХ в. Так, в 2003
и 2005 гг. соответственно в Липецке и Орле были защищены три кандидатские диссертации: Н. Ю. Филоненко – «Становление и развитие поэтики экспрессионизма в творчестве Л. Н. Андреева», О. В. Вологина – «Творчество Леонида Андреева в контексте европейской литературы конца XIX – начала ХХ веков» и Н. А. Бондарева – «Творчество Л. Андреева и немецкий экспрессионизм». В данных работах освещаются такие аспекты, как психология творчества и проблемы освоения художественных традиций Андреева, становление художественного метода писателя, путь от реализма к экспрессионизму, явление синтеза искусств его творчестве. Авторы уделяют место и типологическим связям произведений Леонида Андреева и Г. Ибсена, М. Метерлинка, Э. По, Г. Кайзера и др.
Особую ценность представляют сборники «Леонид Андреев. Исследования и материалы», выпущенные ИМЛИ РАН. На данный момент было осуществлено два выпуска: первый – в 2000, второй – в 2012 г. В первом сборнике основное место отводится статьям по исследованию прозы и драматургии Леонида Андреева в русском контексте, но помимо них составители включили статью «“Жизнь Человека” на польской сцене» И. Альберта, отражающую рецептивный подход к драматическому творчеству писателя. Второй сборник базируется как раз на рецептивном подходе: восприятию творчества Андреева в разных национальных культурах и в контексте различных литературных традиций посвящен отдельный раздел. В нем анализируется рецепция произведений (в том числе пьес) Андреева в США, Болгарии, Франции, Польше, Бельгии, Испании, Финляндии, странах Скандинавии, Китае и Венгрии; есть статья об особенностях перевода и интерпретации творчества Леонида Андреева на иврите и идише. Отметим, что в сборнике отсутствует материал на наиболее очевидную тему – о рецепции творчества Андреева в Германии и немецкоязычных странах, возможно, такая работа ждет своего выхода в свет.
В последнее десятилетие был опубликован ряд работ, также касающихся в той или иной мере типологических связей драматургии Л. Андреева с европейским литературным процессом конца XIX – начала ХХ в. Прежде всего назовем недавно вышедшую монографию Г. Н. Боевой «Творчество Леонида Андреева и эпоха модерна» (2016), в которой устанавливаются многообразные сближения прозы, а в некоторых случаях и драматургии писателя с произведениями современников. При этом кроме глав, посвященных сравнительно-литературоведческим исследованиям на отечественном поле (Андреев и Горький, Сологуб, Бунин, авангардисты, еврей- ская литература), в книге есть раздел «Творчество Андреева в контексте литературы европейского модерна». Так, автор проводит параллели между творчеством Л. Андреева и литературным наследием К. Гамсуна, Г. Ибсена, А. Стринд-берга, С. Пшибышевского, Д. Лондона. Говоря о связях Андреева с немецкой драматургией, Боева в первую очередь выделяет пьесы Г. Гауптмана, которые имели большой успех на российской сцене и затронули Л. Андреева: «Возчик Ген-шель», «Потонувший колокол», «Михаэль Крамер», «Ткачи», «Одинокие». Известно, что в 1906 г. после просмотра «Ткачей» в Берлине Л. Андреев значительно изменил план своей пьесы «Савва». Необходимо упомянуть также работы В. Терехиной «Экспрессионизм в русской литературе первой трети ХХ века» (2009) и Л. И. Шишкиной «Творчество Леонида Андреева в контексте культуры ХХ века» (2009), в которых творчество писателя рассматривается сквозь призму экспрессионизма. Шишкина отмечает, что в андреевском портрете бытовая конкретика внешних деталей заменена экспрессионистской выразительностью развернутых ассоциативных сравнений, создающих общее впечатление от образа.
Таким образом, в последние годы интерес к исследованию художественного метода Андреева-драматурга в контексте европейского литературного процесса очевиден, как и интерес к проблемам рецепции творчества Андреева в других странах и типологическим связям его произведений с творчеством зарубежных писателей. Исследователей все больше интересует «стереоскопическое разнообразие точек зрения» на драматурга и «многофронтальное обследование» жизни андреевских пьес в инокультурной среде [Леонид Андреев: материалы и исследования 2012: 4].
DRAMATURGY OF LEONID ANDREYEV
IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN LITERARY PROCESS: ANALYSIS OF DOMESTIC RESEARCH
Olga I. Khayrulina
Postgraduate Student in the Department of Modern Russian Literature and Modern Literary Process Lomonosov Moscow State University
IstinaResearcherID (IRID): 31662145
Irina V. Monisova
Associate Professor in the Department of Modern Russian Literature and Modern Literary Process Lomonosov Moscow State University
IstinaResearcherID (IRID): 7731318
Submitted 20.11.2018
Список литературы Драматургия Леонида Андреева в контексте европейского литературного процесса: анализ отечественных исследований
- Афонин Л. Н. Леонид Андреев. Орел, 1959. 104 с.
- Бабичева Ю. В. Драматургия Л. Андреева эпохи первой русской революции. Вологда, 1971. 186 с.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990. С. 335-407.
- Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. 336 с.
- Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. М.: Искусство, 1994. Т. 2. 572 с.
- Боева Г. Н. Творчество Леонида Андреева и эпоха модерна. СПб.: Петрополис, 2016. 520 с.
- Бондарева Н. А. Творчество Л. Андреева и немецкий экспрессионизм: дис. … канд. филол. наук. Орел, 2005. 205 с.
- Брехт Б. Театр. М.: Искусство, 1965. Т. 5, ч. 2. С. 102-103.
- Вологина О. В. Творчество Леонида Андреева в контексте европейской литературы конца XIX - начала XX веков: дис. … канд. филол. наук. Орел, 2003. 212 с.
- Волошин М. А. Леонид Андреев и Федор Сологуб // Русь. 1907. № 340. С. 3-4.
- Григорьев А. Л. Леонид Андреев в мировом литературном процессе // Русская литература. 1972. № 3. C. 190-204.
- Дрягин К. В. Экспрессионизм в России // Труды Вятского пединститута. Вятка, 1928. Т. 3, вып. 4. C. 324-328.
- Иезуитова Л. А. Творчество Л. Андреева (1892-1906). Л., 1976. 240 с.
- Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927. 368 с.
- Кен Л. В. Леонид Андреев и немецкий экспрессионизм // Андреевский сборник. Исследования и материалы / под науч. ред. Л. Н. Афонина. Курск, 1975. Т. 37. 262 с.
- Леонид Андреев: исследования и материалы, вып.1. М.: ИМЛИ РАН, 2000. 415 c.
- Леонид Андреев: исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Вып. 2. 384 c.
- Луначарский А. В. Сочинения: в 8 т. М., 1965. Т. 5. 412 с.
- Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 2. 703 с.
- Михайловский Б. В. Творчество Л. Андреева // Русская литература ХХ века. М., 1939. С. 319-332.
- Смирнов В. В. Проблемы экспрессионизма в России // Русская литература. 1997. Вып. 2. С. 55-63.
- Терехина В. Н. Экспрессионизм в русской литературе первой трети ХХ века. М.: ИМЛИ РАН, 2009. 320 с.
- Филоненко Н. Ю. Становление и развитие поэтики экспрессионизма в творчестве Л. Н. Андреева 1898-1908 годов: автореф. дис. … канд. филол. наук. Липецк, 2003. 18 с.
- Шишкина Л. И. Творчество Леонида Андреева в контексте культуры XX века. СПб.: Изд-во Северо-Западной академии гос. службы, 2009. 219 с.
- Kayser W. Das Groteskein Malereiund Dichtung Oldenburg-Hamburg Staling, 1957. 157 p.