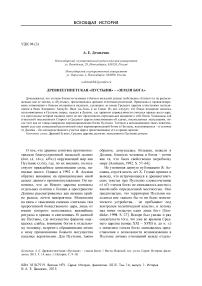Древнеегипетская "пустыня" - "земля бога"
Автор: Демидчик Аркадий Евгеньевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Доказывается, что степень близости человека и богов в нильской долине (собственно «Египет») и на расположенных вне ее землях, в «Пустыне», представлялась древним египтянам различной. Приведены и проанализированы упоминания о божьем воздаянии в надписях, сделанных до конца Среднего царства египетскими экспедициями в Вади Хаммамат, Хатнубе, Вади эль-Холь и на Синае. Из них следует, что божье воздаяние казалось исполняющимся в Пустыне скорее, нежели в Долине, где гарантом справедливости считался прежде всего царь, и в многолюдье которой индивид часто не мог предполагать персональное внимание к себе богов. Уникальны для египетской письменности Старого и Среднего царств повествования об удачах, ниспосланных экспедициям, после того как их главы совершили жертвоприношения богам Пустыни. Толчком к возникновению таких повествований стал сам уникальный религиозный опыт жертвоприношений богам в Пустыне, исполнявшихся - в отличие от Долины - без непосредственного участияцаря и представлявших его в храмахжрецов.
Древний египет, среднее царство, религия, экспедиции в пустыню, ритуал
Короткий адрес: https://sciup.org/147219234
IDR: 147219234 | УДК: 94
Текст научной статьи Древнеегипетская "пустыня" - "земля бога"
О том, что древние египтяне противопоставляли благоустроенной нильской долине (kmt, tA, tAwy, idbwy) окружающий мир как Пустыню (xAst), где, по их мнению, господствуют враждебные цивилизации силы, написано много. Однако в 1992 г. Я. Ассман обратил внимание на принципиально иной аспект данного противопоставления. Он напомнил, что до Нового царства контакты отдельных египтян с богами в пространстве Долины рассматривались как явление крайне редкое, почти невероятное. Монополия на связь с «высшими силами» считалась там прерогативой божественного царя, лишь от имени которого исполнялись важнейшие ритуалы в храмах и святилищах. В далекой же Пустыне, где могущество фараона ощущалось слабее, внимание богов к отдельному человеку, встречи с обращенными лично к нему проявлениями божьего могущества казались вероятными. Для Пустыни, таким образом, допускалась бóльшая, нежели в Долине, близость человека и богов – почти как та, что была свойственна загробному миру [Assmann, 1992. S. 57–64].
Не упоминая данную публикацию Я. Ас-смана, спустя шесть лет Х. Гедике пришел к выводу, что встречающееся в древнеегипетских текстах про Пустыню словосочетание tA nTr «земля бога» не связывалось жестко с какой-либо определенной местностью. Оно предполагало, что территории Пустыни находятся вне «какого бы то ни было политического устройства… не пребывают под контролем политической власти», и потому над ними «властен один лишь бог» [Goe-dicke, 1998. S. 27]. Вскоре был указан и ряд свидетельств того, что уже во времена Среднего царства (конец XXI – XVIII в. до н. э.) с понятием «земля бога» связывались представления о возможности возникновения в Пустыне личных отношений между отдель-
Демидчик А. Е. Древнеегипетская «Пустыня» – «земля Бога» // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 1: История. С. 9–18.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 1: История
ным человеком и местными богами [Демид-чик, 2005. С. 157, 158, 174–178] 1.
Приведенные выше суждения можно подкрепить и надписями участников египетских экспедиций в Пустыню с упоминаниями об исходящем от богов прижизненном воздаянии путнику за его поступки. Такие надписи встречаются на проходящем через Вади Хам-мамат пути к Красному морю, в травертиновых (алебастровых) каменоломнях Хатнуба, в аметистовых копях Вади эль-Худи, в копях по добыче меди и бирюзы на Синае и на придорожных скалах близ Вади эль-Холь. Известные мне примеры периода до конца Среднего царства можно условно разделить на «обращения» (I) и «повествования о личном контакте путника (обычно главы экспедиции) с божеством или богами» (II). «Обращения», в египтологии называемые еще «призывы к живущим», – просьбы к оказавшимся близ надписи путникам совершить для названного в ней лица жертвенный ритуал и прежде всего произнести так называемую жертвенную формулу [Schubert, 2007. P. 2–9, 443–447]. Последняя будто бы позволяла усопшему насладиться перечисленными в ней жертвоприношениями. Просьбы часто дополнялись обещаниями воздаяния, которые и представляют для нас главный интерес. Помимо них в число «обращений» допустимо включить и угрозы тем путникам, которые осквернят или разрушат надпись 2. Вторая группа выделяемых нами текстов, «повествования», сводятся к рассказу о том, как после жертвоприношений от главы экспедиции богам Пустыни последние даровали ей успех.
-
I. « Обращения ».
-
I.1. Вади Хаммамат.
-
I.1.1. В правление царя VIII династии Неферкаухора Хуиуихепу 3 жрец-чтец и начальник писцов 4 Шемаи заверял, что лишь те, кто произнесет для Шемаи жертвенную
формулу – это «желающие спуститься в Верхний Египет (т. е. благополучно вернуться из Пустыни в Долину) с вашими приношениями для вашего владыки» [Couyat, Montet, 1912. P. 91, 92, pl. 35, no. 150; Eichler, 1994. S. 71; Schubert, 2007. P. 98]. В надписи не сказано прямо, что благополучное возвращение из Пустыни станет наградой от богов, но сравнение с приведенными ниже текстами делает такую трактовку надписи правдоподобной.
-
-
-
I.2. Хатнуб.
-
I.2.1– 3. В царствование поздней XI или в начале XII династии 5 Каи, сын правителя XV верхнеегипетского нома, приказал начертать свое изображение перед наполненным яствами жертвенным столом и хвалебную надпись, завершавшуюся словами: «[что же до того, кто разрушит эти] (культовые) изображения 6, (сами) боги XV верхнеегипетского нома накажут его» [Anthes, 1928. S. 36–38, Tf. 16, Gr. 16 (21–22)]. Такую же угрозу включил в свою хвалебную надпись участвовавший в той же экспедиции золотых дел мастер Аханахт [Ibid. S. 41–42, Tf. 20, Gr. 19 (6–8)], и она же выписана в граффито № 35 под изображением двух мужчин, одного из которых, вероятно, звали «Нерехеф, сын… сына Инерера» [Anthes, 1928. S. 70, Tf. 23, Gr. 35; Shaw, 2010. P. 157].
-
I.2.4, 5. При втором или третьем царе XII династии казначей Себекхотеп снабдил изображение правителя XV верхнеегипетского нома Джхутинахта припиской: «что до того, кто разрушит это (изображение), [его (т. е. святотатца) разрушит] (сам бог) Тот» [Anthes, 1928. S. 72, 73, Tf. 14, Gr. 42]. Это же сказано в сильно разрушенном хатнубском граффито № 33 [ S. 69–70, Tf. 25, Gr. 33 (1–2); Shaw, 2010. P. 156].
-
Читатель может, конечно, возразить, что в примерах II.2.1–5 не сказано прямо, что божье воздаяние настигнет святотатцев еще при жизни. Упоминания же «богов XV верхнеегипетского нома», главным из которых был Тот, на первый взгляд могут предполагать, что возмездие обрушится на нечестивцев лишь после их возвращения в этот ном и даже лишь после их похорон на его кладбищах. Однако такое истолкование плохо согласуется с обещаниями и угрозами в начертанных рядом ханубских надписях (см. ниже, II.2.6–17), а названные боги считались владыками не только XV верхнеегипетского нома в Долине, но и расположенного неподалеку от него в Пустыне Хатнуба.
-
I.2.6– 14. Граффити № 12, 16–18, 20, 22, 28, 32 включают в себя обещание: «Что до всякого путника, который (исполняя ритуал) поднимет свою руку к этому изображению, он достигнет своего дома здоровым, (после того) как он (успешно) исполнит то, зачем он (сюда) приходил» 7. Таким образом, воздаянием за исполнение жертвенного ритуала в ханубских надписях объявляется успешное достижение целей экспедиции и возвращение ее участника из Пустыни домой в добром здравии. И то и другое – блага прижизненные. Но, значит, примерно в такие же сроки должна была свершиться и божья кара, обещанная нечестивцам в II.2.1–5. Заметим, что в II.2.1 угроза божьей карой и приведенное выше обещание благополучного возращения неподалеку друг от друга 8.
-
I.2.15. На то, что расплата настигнет нечестивца еще до его возвращения из Пустыни, прямо указано и в надписи на стеле от двадцать второго года царствования Сену-серта I. Про соседствующее с ней изображение чиновника сказано, что всякий, кто произнесет для него жертвенную формулу, «благополучно достигнет (дома, после того как) он (успешно) исполнит то, зачем он (сюда) приходил; что же до того, кто разрушит это изображение, не достигнет он своего дома, не обнимет своих детей – не видать ему (удачного) исхода 9!» [Posener, 1968; Eichler, 1994. P. 74; Shaw, 2010. P. 163–164].
-
I.2.16. На другой стеле времени Сенусер-та I прямо указано, что воздаяние, свершающееся еще до выхода из Пустыни, исходит от богов. Путник, исполнивший жертвенный ритуал, «достигнет свой дом благополучно, (после того как) он (успешно) испол-
нит то, зачем он (сюда) приходил. [Что же до того], кто разрушит это изображение и сотрет эту надпись […], не видать ему (успешного) исхода 10, он не сможет исполнить то, зачем он (сюда) приходил, [его накажут (сами боги) Тот, владыка] Гермополя 11, и Немти 12, владыка Trty » [Simpson, 1961; Eichler, 1994. P. 73, 74; Shaw, 2010. P. 164–165]. Из надписи также следует, что кара, ниспосланная Тотом и Немти, настигнет нечестивца еще в Пустыне.
-
I.2.17. С учетом последнего примера нужно трактовать и угрозу в надписи, созданной для правителя XV верхнеегипетского нома Аменемхата в тридцать первый год царствования Сенусерта I: всякого, кто, исполняя ритуал, поднимет руку к изображению Аменемхата, «похвалит его (сам бог) Нем-ти 13; что же до того, кто разрушит мое имя на этом изображении, (сами) боги XV верхнеегипетского нома сгонят его детей с его должности вслед за его смертью» [Anthes, 1928. S. 76–78, Tf. 31, Gr. 49 (10–12); Schubert, 2007. P. 112, 113]. Из предшествующего примера (I.2.16) следует, что в Хатнубе Немти рассматривался как бог, карающий или награждающий участников экспедиции еще в Пустыне. Это понятно, ведь Немти – «бог странник», «покровитель разработок минералов в Восточной пустыне» [Берлев, 1969. С. 27]. Естественно, что нечестивец, лишившийся покровительства Немти, обречен на гибель в Пустыне. Надпись Аменемхата, правда, добавляет к этому, что кара распространится и на оставшихся в Долине детей нечестивца. Боги XV верхнеегипетского нома лишат их возможности наследовать должность покойного отца, а стало быть, и приносимых ею средств к существованию. Подразумевается, что в результате этого никто на свете не станет исполнять нечестивцу заупокойный культ 14.
-
I.3. Вади эль-Худи.
-
I.3.1. На двадцать втором году царствования Сенусерта I некто «Себек, сын (человека по имени) Кети» написал: «Что до того, кто прочтет это (т. е. данное имя), он спустится (с нагорья Пустыни в Долину) благополучно» [Fakhry, 1952. P. 29, 30, fig. 24, pl. XII B; Sadek, 1980. P. 28, 29; Eichler, 1994. P. 75, Anm. 26]. Сравнение сказанного с приведенными выше хатнубскими «обращениями» позволяет предположить, что благополучное возвращение из Пустыни представлялось Себеку следствием милости богов.
-
-
I.4. Синайский полуостров.
-
I.4.1. В царствование Сенусерта III начальник переводчиков Анху и переводчик 15 Мереру написали, что «любящие своих богов и (желающие) достичь (своего дома) благополучно» должны произнести для них жертвенную формулу [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XCIV, no. 511; Schubert, 2007. P. 135].
-
I.4.2. В сорок второй год царствования Амнемхата III казначей-подручный начальника казны Себекхотеп 16 письменно провозгласил, что путники, которые произнесут для него жертвенную формулу – это «желающие достичь (своего дома) благополучно», «те, кто удостоится похвалы у (богини) Хатхор 17, хозяйки бирюзы, (у бога) Сопду, владыки Востока, (у обожествленного царя) Снофру, Хора-владыки Пустыни, (у) богов и богинь, пребывающих в этой стране и дающих Хатхор всякие прекрасные [вещи (?)]» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XII, no. 28; Schubert, 2007. P. 170].
-
I.4.3. Через два года начальник управления сокровищницы Себекхерхеб, убеждая произнести для него жертвенную формулу, написал: «О, живущие, находящиеся на (земле), которые прибудут к этим копям! Будут жить долго для вас ваш царь, и благоволить к вам ваши боги, вы достигнете (вашего дома) благополучно, (если) вы произнесете (это)» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XVII].
-
I.4.4. В четвертый год царствования Аме-немхата IV казначей сопровождения канцелярии Кемау, призывая произнести для него жертвенную формулу, написал: «О, живущие, пребывающие на земле, которые прой-
-
- дут мимо этой надписи! (Когда) желаете вы, чтобы хвалили вас ваши боги и вы вступили бы в Обе земли (т. е. в Долину), произнесите вы (это)!» [Ibid. Pl. XXXVI].
-
I.4.5. Временем XII династии принято датировать надпись переводчика 18 Сенусерта, где путник, который исполнит для Сенусер-та жертвенный ритуал, назван «желающим, чтобы хвалил его (т. е. путника) Снофру, Хор Небмаат» и «тем, кто достигнет свой дом благополучно» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XCIV, no. 510; Schubert, 2007. P. 156]. Благополучное возвращение из Пустыни домой определенно связывается здесь с благоволением к путнику, исполнившему ритуал, со стороны Снофру, Хора Небмаат – обожествленного покровителя Синая.
-
I.4.6. В правление, по всей видимости, XIII династии некий Сопдунахт называл того, кто произнесет для него жертвенную формулу «желающим достичь (своего дома) благополучно» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XIII, no. 40].
-
I.4.7. Сомнительной остается датировка синайской надписи № 36, которая, по мнению Я. Черни, может относиться не к позднему Среднему царству, а уже ко времени XVIII династии 19. Надпись призывает «тех, кто придет к этой копи», произнести жертвенные формулы для трех египтян. Первый из них, чье имя разрушено, при этом пишет: «(если) вы хотите достичь (своего дома) благополучно». Камнесечцы же Хори и Пта-хур обещают, соответственно: «будет благосклонна к вам (богиня) Хатхор, хозяйка бирюзы» и «будет благосклонен к вам Тот, владыка Гермополя» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XIV; Schubert, 2007. P. 149, 150]. Сопоставление всех трех обещаний оставляет впечатление, что благополучное возвращение из Пустыни домой даруется богами.
-
I.5. Вади эль-Холь
-
I.5.1 –2. Живший, вероятно, под конец правления XII династии жрец Себекхотеп пообещал, что тот, кто с должным почтением прочтет его надпись, «достигнет (дома) благополучно». По словам издателя, неподалеку сохранилось похожее обещание, выписанное, вероятно, в царствование Аме-немхата I [Darnell, 2002. P. 102–104, pl. 74, 82, 83].
-
-
II. Повествования о личном контакте путника с божеством или богами .
-
II.1. Вади Хаммамат.
-
II.1.1. В восьмой год царствования Санх-кара Ментухотепа (II) царский домоправитель Хенену возглавил экспедицию в три тысячи человек из г. Коптос через пустыню к Красному морю, чтобы затем подготовить и осуществить плавание за свежей миррой в далекую страну Пунт. Похвалившись успешным переходом через Восточную пустыню, Хенену далее сообщает: «Взял и достиг я моря, взял и построил я эту флотилию; я направил (?) 20 ее со всякими вещами и совершил ради нее великое жертвоприношение из (обычных) быков, быков длиннорогих и козлов. А когда я вернулся с моря, я (уже) исполнил приказанное его величеством, (ибо) я принес ему всевозможные приношения, найденные мной на берегах земли бога» [Couyat, Montet, 1912. P. 81–84, pl. XXXI, no. 114]. Совершенное чиновником обильное жертвоприношение удостоено в надписи специального упоминания, и, похоже, именно c ним Хенену связывает успех путешествия в далекую «землю бога», который, стало быть, понимается как следствие благодарности богов за поднесенные им дары. И хоть прямо в надписи этого не сказано, в правильности данного истолкования убеждает сравнение с II.1.2.
-
II.1.2. В царствование Аменемхата I «царев порученец и начальник жрецов (бога) Мина» Инийотеф письменно рассказал, что, будучи послан царем в Вади Хаммамат для добычи камня, он восемь дней тщетно искал туда дорогу. Затем, – повествует Инийо-теф, – «пал я ниц пред (богами) Мином, (богинями) Мут и Пахет (?), великой чарами 21, и перед всеми богами этой пустыни, и воскурил я благовония 22. (Когда же) озарилась земля ранним утром […удалось] выйти к этой горе Вади Хаммамат ( rA-hnw )…» [Cou-yat, Montet, 1912. P. 100–102, pl. XXXVIII, no. 199; Goedicke, 1964. P. 44, 45]. В дальнейшем Инийотефу удалось добыть нужный камень, его работники ликовали, и экспедиция вернулась из Пустыни в Долину, не потеряв ни единого человека. Очевидно, что
-
- перечисленные удачи рассматриваются Инийотефом как воздаяние от богов, так отблагодаривших чиновника за жертвоприношения. Эта трактовка подтверждается и сравнением с синайскими надписями.
-
II.2. Синай.
-
II.2.1. На шестом году царствования Аменемхата III казначей бога, начальник внутренних покоев царя, надзиратель (военных) отрядов Хорурра письменно поведал в Серабит эль-Хадим, что его экспедиции пришлось добывать там бирюзу в неблагоприятное время года. Несмотря на это, качество и количество добытого оказались превосходными. Свой неожиданный успех Хорурра объясняет милостью к нему почитавшейся в Серабит эль-Хадим богини Хат-хор, которая щедро воздала за принесенные чиновником жертвенные дары: «Смотрите, Хатхор дает это (т. е. бирюзу) тому, кто щедро жертвует!» 23. Потому и участникам будущих экспедиций за бирюзой Хорурра советует: «Преподносите, преподносите (жертвенные дары) госпоже небес, чтобы вы задобрили Хатхор! Сделайте вы так – полезно для вас!» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XXVA, no. 90; Bonnet, Valbelle, 1996. P. 119, fig. 141].
-
II.2.2. На сорок четвертом году царствования Аменемхата III уже упоминавшийся казначей-подручный начальника казны Се-бекхерхеб заложил в Серабит эль-Хадим новую копь. Успех экспедиции чиновник объясняет не только благосклонностью богов земных недр к фараону, но и благосклонностью «Хатхор – владычицы бирюзы» лично к нему, Себекхерхебу. Чтобы заручиться ее покровительством, чиновник преподнес богине алтарь и льняные ткани, а также «жертвенный дар – хлеб и пиво, быков и птиц, ладан для сожжения 24. Я исполнил для нее праздничные жертвоприношения, я наполнил пищей ее алтари, а она вела меня своим прекрасным водительством» [Gardiner, Peet, 1952. Pl. XVII].
-
Подавляющее большинство известных нам древнеегипетских «обращений» размещались на кладбищах, а со Среднего царства – и в храмах. Но даже при внешнем сходстве с ними «обращения», оставленные в
Пустыне, выделяются лаконичностью и конкретностью описаний воздаяния. На кладбищах и в храмах Долины момент воздаяния обозначался обычно весьма расплывчато – назывались как перемены прижизненные, так и посмертные, причем напоминания о последних преобладали. В Пустыне же, как явствует из приведенных «обращений», божье воздаяние представлялось сбывающимся чрезвычайно скоро: чаще всего еще до возвращения путника в Долину, хоть затем, после его смерти, могли пострадать и его потомки (I.2.17). Объяснить такую стремительность божьего воздаяния в Пустыне можно двояко, причем эти объяснения дополняют друг друга.
Дальние походы в Пустыню были одним из самых тяжелых и рискованных испытаний, какое только могло выпасть древнему египтянину. Поэтому скорейшее успешное возращение в Долину обычно становилось главным, самым сильным желанием большинства участников экспедиций. Гибель же и похороны в Пустыне, по древнеегипетским представлениям, обрекали человека на вечные посмертные лишения и муки. Ведь вдали от кладбищ и храмов Долины невозможно было получить должное погребальное и культовое обеспечение, а стало быть, и приносимых ими посмертных благ 25. Достаточно вспомнить, сколь ненавистной была мысль о похоронах в Пустыне для знаменитого Синухета. В размещенных в Пустыне «обращениях» поэтому обычно излишне расписывать воздаяние, которое боги могут ниспослать путнику позже, Долине. Уже одно только обещание успешного выхода из Пустыни или гибели в ней создавало мотивацию более мощную, чем упоминания о благах или бедствиях, возможных после этого.
Другое объяснение отмеченной особенности «обращений», оставленных в Пустыне, может состоять в том, что божье правосудие там представлялось более оперативным, нежели в Долине. Хоть боги любили и защищали справедливость (мАат), обеспечение таковой в Долине было прежде всего прерогативой представлявшего их средь людей божественного царя. При этом последний решал участь подданных не только при их жизни, но во многом и после смерти. Предоставляя или не предоставляя египтянам возможность возведения гробницы и обеспечения поминального культа, государь тем самым во многом устанавливал и меру доступных им посмертных благ. В этом качестве он подменял собой отчасти даже загробный божий суд. И египтянам, видимо, казалось оправданным, что боги часто не спешат сами вершить справедливость среди подданных царя.
Кроме того, в густонаселенной Долине египтянину могло казаться, что богам просто недосуг заметить его средь более чем миллиона ему подобных. Скажем, согласно «обращениям» Старого царства, осквернение кладбищенских памятников боги замечали, лишь когда сам усопший в потустороннем мире подавал им на это жалобу. И даже после этого богам еще требовалось судебное разбирательство, чтобы установить вину нечестивца. Показательно, что авторы некоторых «обращений» грозились даже и после смерти лично нападать на нечестивцев – видимо, чтобы избежать этой божьей волокиты [Schubert, 2007. P. 16–60, 392–406]. А в так называемых «письмах мертвым» египтяне просили заступничества у ранее скончавшихся родственников, полагая, что без этого боги не обратят внимания на их несчастья и не вмешаются, чтобы восстановить справедливость.
В Пустыне же могущество царя было гораздо слабее. При этом в ее бескрайних песках даже участник сравнительно многолюдной экспедиции то и дело ощущал себя никак не укрытым от их взглядов. Следствием этого стало убеждение, что в Пустыне, в отличие от Долины, любящие Справедливость боги готовы воздать путнику по делам его незамедлительно.
Представлением о том, что в Пустыне человек способен побудить богов к скорой ответной реакции на свои действия, пронизаны и приведенные выше «повествования» (II). Даже будучи стилистически близки создававшимся в Долине кладбищен- ским жизнеописаниям, тематически они уникальны.
До конца Среднего царства высказывания жизнеописаний о какой бы то ни было личной связи между человеком и богами очень немногочисленны и весьма кратки. Обычно они сводятся к тому, что покойный был «любим» или «хвалим» тем или иным богом, находился под его особым покровительством. Чаще всего так говорится о верховных жрецах и номархах, по долгу службы лично вступавших в ритуальный контакт с богами своих областей. В последнем случае отношения с богом могли даже описываться в терминах «сын» и «отец»; о богине говорилось, что она заботилась о номархе, как принято заботиться о «муже». Однако связь между столь избирательной благосклонностью богов к египтянину и его поступками в жизнеописаниях обычно специально не объяснялась – скорее, она преподносилась как некая данность. Скажем, даже похваляясь щедрыми жертвоприношениями богам своих областей, лично совершавшие их верховные жрецы и номархи ни разу не выделили какой-либо конкретный, частный случай проявленной богами за это благодарности 26 . Тем более, такие случаи не названы в жизнеописаниях остальных египтян, как правило, не имевших возможности лично вступать с богами в ритуальную коммуникацию.
По сравнению с этим уникален уже сам исходный пункт приведенных выше повествований о контактах с богами в Пустыне (II). Если в Долине ритуальная коммуникация с богами была в огромной степени монополизирована царем, от имени которого и действовали жрецы в храмах, то оказавшиеся вдали от них участники экспедиций в Пустыню должны были лично совершать жертвоприношения ее богам или по меньшей мере при этом присутствовать 27 . В результате все происходившее с экспедицией после этого могло рассматриваться как ответ богов на ритуальные действия людей, т. е. как некая временная связь с богами, возникшая по инициативе и просьбе челове- ка. Непривычный религиозный опыт такого рода столь будоражил воображение египтян, что нашел свое отражение и в знаменитом «Рассказе потерпевшего кораблекрушение». Ответом на жертвоприношение, совершенное героем «Рассказа» на необитаемом острове, даже стал акт теофании – непосредственное явление ему божества. Естественно, что и участники экспедиций стремились увековечить в надписях на камне память об успехах, будто бы ниспосланных им богами за их жертвоприношения.
Догадка о том, что отправным пунктом для возникновения такого рода повествований стали исполнявшиеся путниками в Пустыне ритуалы жертвоприношений, косвенно подтверждается отсутствием интересующих нас рассказов в расположенном близ Долины Хатнубе при наличии их в далеких Вади Хаммамат (II.1.1–2) и синайских копях (II.2.3–4). Экспедиции в Хатнуб обычно полагались на действенность ритуалов, исполнявшихся неподалеку жрецами в храмах Долины 28, и потому не имели необходимости свершать жертвоприношения богам самостоятельно. Соответственно, нет в Хат-нубе и повествований о контактах с богами. Экспедиции же в Вади Хаммамат и на Синай обычно не могли уповать на действенность ритуалов, исполнявшихся в далекой Долине, и их религиозный опыт самостоятельных жертвоприношений породил занимающие нас тексты.
В завершение следует отметить, что временем оформления представлений об особой близости человека к богам в Пустыне стал Первый переходный период. В самом конце Старого царства появляется первое «обращение» в Пустыне (I.1.1), на рубеже правления IX и X династий ее начинают называть «землей бога» [Edel, 2008. S. 1743– 58, 1811–1813, Abb. 21–23. f-d, Tf. 81–82 (20)]; в самом начале Среднего царства записан рассказ Хенену о жертвоприношениях и последующих успехах его экспедиции в «земле бога» (II.1.1). Со смутного времени Первого переходного периода египтяне окончательно уверились в том, что в Пустыне участь человека определяется не столько приказами царя, сколько волей божьей.
Список литературы Древнеегипетская "пустыня" - "земля бога"
- Берлев О. Д. «Сокол, плывущий в ладье», иероглиф и бог // Вестн. древней истории. 1969. № 1. С. 3-30.
- Демидчик А. Е. Безымянная пирамида: государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской монархии. СПб.: Алетейя, 2005. 272 с.: ил. (Aegyptiaca I).
- Anthes R. Die Felseninschriften von Hatnub nach den Aufnahmen G. Möllers. Leipzig: Hinrichs’, 1928. 120 S., 33 Taf. (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Agyptens; 9).
- Assmann J. Politische Theologie zwischenÄgypten und Israel. Erweiterte Fassung eines Vortrags gehalten in der Carl Friedrich von Siemens Stiftung am 14. Oktober 1991. München: Carl Friedrich von Siemens Stiftung, 1992. 120 S.
- Bonnet Ch., Valbelle D. Le sanctuare d‘Hathor, maîtresse de la turquoise Sérabit el-Khadim au Moyen Empire. P.: Picard - Musumeci, 1996. 199 p., 189 pl.
- Bradbury L. Reflections on Traveling to «God's Land» and Punt in the Middle Kingdom // Journal of the American Research Center in Egypt. 1988. Vol. 25. P. 127-156.
- Couyat J., Montet P. Les inscriptions hiéro-glyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât. Le Caire: Imprimerie de l’Institut Français d'Archéologie Orientale, 1912. 141 p., 45 pl. (Memoires publiés par les members de l’Institut Français d'Archéologie Orientale; 34).
- Darnell J. C. Theban Desert Road Survey in the Egyptian Western Desert. Vol. 1. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2002. 176 p., 126 pl.
- Eichler E. Zur kultischen Bedeutung von Expeditionsinschriften // Essays in Egyptology in Honor of Hans Goedicke / Eds. B. M. Bryan, D. Lorton. San Antonio: Van Siclen Books, 1994. P. 69-80.
- Edel E. Die Felsgräbernekropole der Qubbet el-Hawa bei Assuan. München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöningh, 2008. 2072 S., 75 Tf.
- Fakhry A. The Egyptian Deserts. The Inscriptions of the Amethyst Quarries at Wadi el Hudi. Cairo: Government Press, 1952. 94 p., 33 pl.
- Gardiner A. H., Peet E. T. The Inscriptions of Sinai. 2 ed. / Revised and augmented by J. Černy. L.: Oxford Univ. Press, 1952. Pt 1. 22 p., XCVI pl.
- Gestermann L. Die Datierung der Nomarchen von Hermopolis aus dem frühen Mittleren Reich - eine Phantomdebatte? // Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 2008. Bd. 135. S. 1-15.
- Goedicke H. God's Earth // Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskus-sion. 1998. Ht. 166. S. 23-28.
- Goedicke H. Some Remarks on Stone Quarrying in the Egyptian Middle Kingdom (2060-1786 B. C.) // Journal of the American Research Center in Egypt. 1964. Vol. 3. P. 43-50.
- Hannig R. Ägyptisches Wörterbuch. Meinz am Rhein: Philipp von Zabern, 2006. Bd. 2: Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit. 3274 S.
- Jones D. An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom. Oxford: Archaeopress, 2000. 1045 p. (British Archaeological Reports International Series; 866 (I)).
- Lichtheim M. Ancient Egyptian Autobiographies chiefly of the Middle Kingdom. A Study and an Antology. Freiburg: Universitäts-verlag; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988. 171 p., 10 pl. (Orbis Biblicus et Orientalis; 52).
- Morschauser S. Threat-Formulae in Ancient Egypt. A Study of the History, Structure and Use of Threats and Curses in Ancient Egypt. Baltimore: Halgo, Inc., 1991. 268 p.
- Obsomer C. Sésostris Ier. Étude chronologique et historique du règne. Bruxelles: Connaissance de l'Égypte Ancienne, 1995. 740 p., maps, plans.
- Posener G. Une stèle de Hatnoub // The Journal of Egyptian Archaeology. 1968. Vol. 54. P. 67-70.
- Sadek A. I. The Amethyst Mining Inscriptions of Wadi el-Hudi. Pt 1. Text. [Warminster, Aris & Phillips Ltd., 1980]. 119 p., 2 maps.
- Schubert S. B. Those Who (Still) Live on Earth. A Study of the Ancient Egyptian Appeal to the Living Texts. A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Toronto: Univ. of Toronto, 2007. 501 p.
- Shaw I. Hatnub: Quarrying Travertine in Ancient Egypt. [Cairo]: Egypt Exploration Society, 2010. 198 p.
- Simpson W. K. An Additional Fragment of a «Hatnub» Stela // The Journal of Near Eastern Studies. 1961. Vol. 20. P. 25-30.