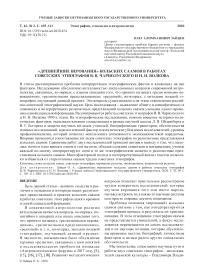"Древнеишие верования" кольских саамов в работах советских этнографов В. В. Чарнолуского и Н. Н. Волкова
Автор: Зайцев Олег Алимханович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 2 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема интерпретации этнографических фактов и влияющих на нее факторов. Исследование обусловлено актуальностью дискуссионных вопросов современной антропологии, связанных, во-первых, с языком описания того, что принято называть «религиозными верованиями», «религиозными представлениями», «религией», во-вторых, с методами полевой этнографии, изучающей данный предмет. Эти вопросы существовали и на этапе становления российско-советской этнографической науки. Цель исследования - выявление общего и специфического в описаниях и интерпретациях религиозных представлений кольских саамов учеными одного времени и одной социальной формации. Рассматриваются работы советских этнографов В. В. Чарнолуского и Н. Н. Волкова 1930-х годов. На этнографические исследования, помимо внешних историко-политических факторов, оказывали влияние социализация в рамках научной школы Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза и широта научных взглядов учителей, биографические траектории, обстоятельства полевых исследований, идеологический фактор и политические убеждения исследователей, уровень профессионализма, который позволял использовать возможности эволюционистской парадигмы. Впервые проводится сопоставление взглядов советских этнографов на религиозные представления кольских саамов. Сравнение работ двух исследователей приводит автора к выводу о том, что, находясь почти в одно время в одном и том же поле, обладая схожими сюжетами и материалами, ученые каждый по-своему интерпретируют одни и те же этнографические сюжеты и религиозные представления кольских саамов. Многофакторный подход и интерпретативный анализ текстов позволяют избавиться от стереотипных оценок трудов советских этнографов.
Кольские саамы, советская этнография, верования, религия, эволюционизм, антропология религии
Короткий адрес: https://sciup.org/147226566
IDR: 147226566 | УДК: 39+2(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.454
Текст научной статьи "Древнеишие верования" кольских саамов в работах советских этнографов В. В. Чарнолуского и Н. Н. Волкова
Цель данной статьи - выявить сходства и различия в описании и интерпретации религиозных представлений и практик кольских саамов в работах советских этнографов одного времени и одной социальной формации.
В современной антропологии религии актуальными являются вопросы, во-первых, понятийного аппарата или языка описания того, что принято называть «религиозными верованиями», «религиозными представлениями», «религией» и т. п., во-вторых, методов полевой этнографии, изучающей данный предмет. В частности, насыщенным было обсуждение термина «религия», связанных с ним понятий и исследовательских проблем на площадке «Антропологического форума» в 2017 году [5], [15], [16], [17], [18]. Решению методологических вопросов помогает пристальное рассмотрение трудов конкретных исследователей, которые изучали верования того или иного народа, пытаясь встроить их в какие-то научные системы или просто стараясь достичь понимания.
Проблемы описания «верований» кольских саамов связаны с тем, как интерпретируются этнографами процесс и результаты их христианизации. В этом отношении этнография саамов не представляется уникальной, а фокус исследования перемещается на самих исследователей и их научные позиции, которые обусловлены временем, местом, биографией, личностным фактором и целым рядом других социальных обстоятельств.
Мы попытались сопоставить научные пути и работы двух советских этнографов - исследователей саамской культуры - Владимира Влади-
мировича Чарнолуского (1894–1969) и Николая Николаевича Волкова (1904–1953).
НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА
Научная парадигма, в рамках которой работали В. В. Чарнолуский и Н. Н. Волков, складывалась на рубеже XIX–XX веков и к 1920-м годам уже оформилась как специфическая школа этнографии. Ее главными основоположниками по праву считаются выдающиеся российско-советские этнографы – профессора Лев Яковлевич Штернберг (1861–1927) и Владимир Германович Богораз (1865–1936).
И В. В. Чарнолуский, и Н. Н. Волков обучались на этнографическом отделении Географического института (с 1925 года – географического факультета Ленинградского государственного университета), В. В. Чарнолуский с октября 1921 по декабрь 1925 года [10: 350], а Н. Н. Волков, находясь на службе в Балтийском флоте (1926– 1930 годы), проходил обучение экстерном с 1928 по 1930 год [10: 353]. В это время на этнографическом отделении преподавали Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз, под руководством последнего с 1928 по 1934 год там же работал Николай Михайлович Маторин (1898–1936) [9: 185–221].
С. А. Токарев отмечал, что Л. Я. Штернберг был наиболее последовательным эволюционистом и «одним из видных организаторов со -ветской этнографической науки». Он отстаивал идею единства человечества и человеческой психики у всех народов и «верил в неуклонный прогресс» [11: 426–427]. Позиция В. Г. Богораза характеризуется особым вниманием к языку изучаемой народности для более качественного понимания процессов, происходящих в данной культуре [8: 101]. Д. В. Арзютов отмечает, что Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз заложили новый вектор отечественной этнографии, созданная ими «концепция поля сплеталась из трех основных линий: происхождение народов <…> вклад в собственно развитие национальной политики и собирание музейных коллекций» [2: 244]. По мнению исследователя, на основании их полевых программ произошло становление новой парадигмы научного описания традиции и традиционного («старого») общества, строгая и однолинейная модель описания была зафиксирована в серии «Народы мира» и сохранялась на протяжении всего XX столетия. «Дискурс описания, созданный Штернбергом и Богоразом, из полевой программы превратился в парадигму и отличительный характер отечественной этнографической школы» [2: 245–246]. А. Б. Панченко полагает, что вклад Л. Я. Штернберга и В. Г. Бо- гораза в этнологическую теорию «заключался не столько в новых положениях, сколько в переосмыслении идей европейской и американской этнологии», так как «они полностью усвоили идеи эволюционизма, что ослабило их собственные теоретические искания», а впоследствии испытали большое влияние школы Ф. Боаса и немецких школ антропогеографии и культурных кругов. На основе анализа трудов ряда отечественных этнографов-народников (Л. Я. Штернберга, В. Г. Богораза, В. И. Иохельсона, Д. А. Клеменца и П. Л. Лаврова) А. Б. Панченко приходит к выводу о существовании преемственности между дореволюционной, советской и современной российской этнологией, в частности в отношении принципа культурного релятивизма или принципа объективизма при анализе элементов духовной культуры [7: 83]. В. Г. Богораз на рубеже веков во время эмиграции в США работал совместно с Ф. Боасом [7: 79].
В. В. Чарнолуский и Н. Н. Волков во многом опирались на труд Н. Н. Харузина «Русские лопари»1. Научная парадигма видного этнографа XIX века сочетала с теорией эволюционизма принцип триады Д. Н. Анучина (связь трех наук: археологии, физической антропологии и этнографии) и историзм В. Ф. Миллера, при которых сложилась российская школа эволюционизма [4: 75–315].
Н. Н. Волков начал исследовательскую работу под руководством этнографа и религиоведа профессора Н. М. Маторина [10: 342–368]. Сразу после окончания университета он поступил в аспирантуру Института этнографии АН СССР. В университете занимался исследованиями скопчества, опубликовал ряд работ2, а в дальнейшем его диссертация «Скопчество как социальноэкономическое и религиозное явление» получила высокую оценку Д. К. Зеленина, Е. Г. Кагарова и других видных специалистов [10: 353]. После службы в органах НКВД (с 1931 по начало 1935 года) Н. Н. Волков изменил тему исследования, начал заниматься этнографией саамов СССР, работал над кандидатской диссертацией. Консультировал его Д. К. Зеленин, с 1925 года профессор кафедры этнографии ЛГУ [10: 342–368].
Немалое влияние на формирование взглядов исследователей оказала политическая идеология. В свое время В. Г. Богораз и Л. Я. Штернберг, под руководством которых входил в науку В. В. Чар-нолуский, были активистами народнического движения. А Н. М. Маторин и Н. Н. Волков были последовательными сторонниками марксизма и членами ВКП(б). Их объединяло движение мысли в социалистическом ключе, что не могло не отразиться на ракурсе исследований. Вопрос о влиянии политических идеологий на становление советской школы этнографии рассмотрен в статье С. С. Алымова и Д. В. Арзютова, предваряющей публикацию стенограммы совещания этнографов в 1929 году в Ленинграде [1].
ПОЛЕВАЯ РАБОТА
Полевая работа обоих этнографов на Кольском Севере пришлась на 1920-е и 1930-е годы. В первый период своей научной деятельности (1926–1938) В. В. Чарнолуский совершил ряд поездок на Кольский полуостров. С 26 декабря 1926 года по 11 мая 1927 года он был командирован туда в составе Лопарской экспедиции от Государственного русского географического общества (ГРГО), членом которого являлся. Экспедиция начала свою работу в Мурманске 11 января 1927 года после встречи ее членов: врача Ф. Г. Иванова-Дятлова и этнографа В. В. Чарнолуского, – с руководителем, профессором-антропологом Д. А. Золотаревым3 [6], [12: 4–5]. Осенью 1927 года Чарнолуский совершает поездку в восточную часть Кольского полуострова, становится научным сотрудником Кольской экспедиции АН СССР. Осенью 1928 года состоялась его поездка к мотовским саамам (северо-западный район Мурманского округа Ленинградской области – от западного берега Кольского залива до Мустатунтури и Мотовского залива); с 28 августа 1930 года по 28 января 1931 года Чарнолуский по поручению ГРГО организовал экспедицию по изучению оленеводства на Кольский полуостров4. В 1933 году исследователь в качестве научного сотрудника Всесоюзного Арктического института (ВАИ) участвовал в экспедиции на Терский берег Кольского полуострова, а в январе 1935 года он попал под сокращение штата. С 1935 года Чарнолуский начал систематическую работу в области фольклора и истории саамов. В 1936 году он предпринял экспедицию на Кольский полуостров от фольклорной секции Союза писателей с целью записи фольклора саамов [6]. Позже (после ареста в 1938 году, лагерей, освобождения, работы не по специальности и выхода на пенсию) В. В. Чарнолуский совершил последнюю свою экспедицию к саамам в 1961 году. Таким образом, его активная полевая деятельность пришлась на 1920–1930-е годы.
Н. Н. Волков осуществил серию экспедиций в Мурманский округ Ленинградской области для изучения саамов в 1935–1936, 1940 годах. Вместе с тем в качестве сотрудника Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР (с 1937 года – Институт этнографии АН
СССР) он с 1935 до лета 1941 года занимался сбором материала, подготовкой и написанием статей в сборник «Народы СССР». В списке народов, которые исследовал Волков, второе место по степени «изучаемости» после саамов занимают вепсы, а далее – карелы, ижоры, водь, эстонцы, финны (савакоты и эвремейсы), коми (пермяки и зыряне), цыгане, венгры, крымские татары и русские. Последнюю экспедицию Волков совершил в 1946 году к вепсам5.
В. В. Чарнолуский и Н. Н. Волков – полевые исследователи. Чарнолуский начал эту деятельность раньше, в составе одной из самых известных и результативных экспедиций к саамам, и завершил свою «полевую биографию» фактически уже в другую советскую эпоху. Однако в 1935–1936 годах, одинаково плодотворных для них в отношении полевых сборов, оба этнографа работали на Кольском полуострове в саамских погостах. К сожалению, на данный момент мы не располагаем достоверными сведениями о том, встречались ли они лично.
Были на пути полевой работы этнографов преграды, не зависящие от их воли: усиление политических репрессий к концу 1930-х годов (тогда был арестованы целый ряд исследователей, в том числе В. В. Чарнолуский) [6], Великая Отечественная война, прервавшая этнографические исследования на Кольском Севере (Н. Н. Волков ушел добровольцем на фронт) [10: 213–216].
ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЛИГИИ И «ВЕРОВАНИЙ»
Сопоставляя позиции этнографов в отношении религии саамов, в первую очередь отметим, что оба исследователя придерживаются эволюционистской трактовки «первобытной религии» в виде известных составляющих: тотемизм, фетишизм, анимизм, шаманизм (магия). С точки зрения Л. Я. Штернберга, согласующейся с концепцией Э. Б. Тайлора, первичной формой религии был анимизм [11: 427]. В своих лекциях Штернберг утверждал:
«Институт религии принадлежит к самым универсальным, самым распространенным институтам всех времен и всех народов земного шара. В настоящее время не найдено ни одного народа, на какой бы низкой культурной ступени он ни стоял, у которого не было бы какой бы то ни было религии, и наука не знает такой древности, когда религиозные представления отсутствовали бы совершенно. Правда, одно время утверждали, что и теперь есть народы, которые не знают никаких религиозных верований, но это утверждение основывалось либо на предвзятой мысли, либо на недоразумении»6.
В религиозных представлениях кольских саамов В. В. Чарнолуский выделял три слоя: тотемизм, шаманизм, православное христиан- ство. По его мнению, с одной стороны, кольские саамы, «несмотря на крайне тяжелые условия существования», сохранили сложившееся ранее мировоззрение, с другой стороны – «язычество постепенно вырождалось» [13: 14].
Первый слой – это «древнейшие верования лопарей», в основе которых «лежали тотемистические представления и культ гор и камней, деревьев и вод, растений и животных, в частности дикого северного оленя» [13: 14]. Объясняя культ оленя, Чарнолуский дает определение тотемизма – «древнейший вид религии, полагающий сверхъестественную связь, общее происхождение, кровную связь родовой группы с каким-нибудь видом животных. У лопарей это был дикий северный олень. Реже встречаются тотемы растений или каких-нибудь предметов» [13: 132].
Второй слой - это «возникший позднее шаманизм», который, по мнению этнографа, слился с первым слоем верований:
«Слава лопарских кебунов (шаманов) распространилась далеко за пределы обитания лопарей. Они были известны как повелители погоды, властители бурь, врачеватели больных, а особенно славились как хорошие предсказатели судьбы» [13: 14].
В статье, посвященной культу Мяндаша, которому он уделял исключительное внимание, В. В. Чарнолуский приводит целый ряд обозначений магических специалистов, к которым жители обращаются по тем или иным жизненным вопросам: «Нойда», «Кебуны», «Колдуны» и «Кайлес милаш» («мудрейшие старцы», общественные судьи). Ученый отмечает, что «понятия о них в литературе запутаны» и «все эти профессии в общественном быту лопарей уже не встречаются» [14: 303]. Заметим, что «запутанная» ситуация с наименованиями саамских ритуальных специалистов и связью конкретных наименований с комплексами представлений о них и их функциях и сейчас продолжает оставаться не вполне проясненной. Что же касается второго утверждения, то его можно интерпретировать по-разному: в контексте эволюционистских идей, в качестве результата полевых наблюдений или как дань официальной установке.
Третий слой религиозных представлений, по мнению этнографа, скорее всего, был поверхностным: «.. .церковные службы посещали только женщины, мужчины же, по-видимому, оставались верны культам дикого северного оленя и богини оленеводства, хозяйки трав – Разиайке». В то же время исследователь признает, что православие выполняло роли политического и экономического инструментов: «помогало в общении с русскими», способствовало разделу саамских земель между монастырями и установлению крепостного права [13: 14].
Несколько иная характеристика «древнейших верований» саамов представлена в работах Н. Н. Волкова, который не говорит о «слоях» в религиозных взглядах кольских саамов. Христианство, по его мнению, было воспринято саамами только внешне, в виде обрядовости, оно «не вытеснило их древнейших религиозных воззрений» и выступало «как одно из средств магического воздействия на природу»7 [3: 72].
Волков отмечает «условность» термина «религия» по отношению к «древнейшим верованиям» саамов:
«Употребляя выражение “религия”, следует иметь в виду условный характер этого термина по отношению к древнейшим верованиям саамов. По сохранившимся пережиткам трудно предположить, что эти верования когда-либо принимали устойчивые религиозные формы»8.
Как видно, исследователь ставит под вопрос универсальность «древнейших верований саамов» по отношению ко всему народу, но не указывает, имели ли место территориальные вариации этих верований.
Н. Н. Волков использует обобщающее понятие «идеология», применяя его как синоним «общественного сознания» и вкладывая в содержание элементы «верования», «право», «мораль», «искусство» и другие:
«Внедрение колонизаторов, нарушая процессы имманентного развития саамского племени, вместе с тем нарушало формирование искаженных понятий о процессах действительного развития. Верования, право, мораль, искусство и другие проявления общественного сознания, называемые идеологией, находились у саамов в период соприкосновения с христианством, в зародышевом состоянии и не успели развиться в самостоятельные области идеологии»9.
К сожалению, этнограф не конкретизирует, какие условия, по его мнению, должны были способствовать самостоятельному развитию идеологии у саамов, кроме указания на христианизацию как фактор, воспрепятствовавший этому развитию.
Н. Н. Волков определяет три признака «самобытной религии саамов»: магия (деятельность нойдов), фетишизм (культ сейдов и других значимых для саамов объектов), анимизм. Эти элементы, по его мнению, «являются основными для любой религии» и в данном случае выделяются по причине их архаичности и «первобытной простоты», так как они «не усложнены мифологией» и «не прикрыты философией»10. Он приходит к следующему выводу о «пережитках древнейших верований саамов»: «…мы должны отнести их верования к разряду религий шаманских, характерных для большинства народов Севера»11.
В качестве примера приведем описание и интерпретацию этнографами культа сейдов в системе «древнейших верований» кольских саамов. Общим в описании культа сейдов В. В. Чарнолу-ским и Н. Н. Волковым являются почтительное отношение к сейду и соблюдение ряда правил поведения: тишина у священного места, запрет смеяться, ругаться или просто громко разговаривать, предписания избегать селиться возле сейдов, ходить большими группами возле них. Для удачи на промыслах (рыбалка, охота) необходимо регулярное приношение дарений сейду. Раньше это были лучшие куски рыбы или оленья кровь, рога оленей, а в дальнейшем все, что люди считали ценным: монеты, цветные лоскутки суконной ткани и т. п. В случае нарушения правил может последовать наказание в виде неудач на промыслах, болезней (в том числе безумия) или даже смерти (в случае тяжких проступков)12 [12: 63–104].
Интерпретации самого предмета культа у этнографов варьируют при общем эволюционистском подходе. По В. В. Чарнолускому, сейды – это духи предков, обитающие в камнях. Как правило, культ сейдов непосредственно связан с культом предков [13: 133]. Духи требуют к себе почтительного отношения, иначе сейд-дух может покинуть свое вместилище (из-за шума) или умереть (если его не «кормить», так как они ведут жизнь, подобную людям) [13: 35]. По Н. Н. Волкову, сей-ды - это родовые фетиши, позже трансформировавшиеся в семейные фетиши - камни, которым поклонялись. Связан этот культ в основном с рыбным промыслом, а также с охотой13. Оба связывают природу сейдов с семейно-родовым культом, но при этом Чарнолусский предлагает «анимистическое» объяснение, а Волков - «фетишистское» и «производственное».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Множество социально-культурных факторов в той или иной степени могли повлиять на способы описания и интерпретации религиозных пред- ставлений и практик, в нашем случае кольских саамов, в работах этнографов одного времени и одной социальной формации. Были обстоятельства непреодолимой силы: место, эпоха, политический режим, исторические события, – которые сказались на жизненных траекториях и научных биографиях этнографов. Первостепенное значение имела научная социализация: преемственность утвердившихся в российской этнографии концепций и широта научных взглядов учителей. Важным фактором сходства и различия позиций исследователей был идеологический, связанный, в частности, с «социальным происхождением». Он сказывался не только на выборе предмета исследования, но и на характере суждений (в допустимых пределах). Н. Н. Волков, выходец из беднейшего крестьянства, получил воспитание в рамках марксистской идеологии и был ее приверженцем, он отличался критичностью и прямотой высказываний, склонностью к «социально-экономическим» обоснованиям явлений духовной культуры. В. В. Чарнолуский, происходивший из «интеллигентной дворянской семьи» [6: 128], избегавший острых углов политики, был осторожен, отдавал предпочтение фольклорно-мифологическому материалу и интерпретациям в духе анимистической теории. Его этнографические описания отличаются от строгих научных текстов Волкова своей литературностью. При этом Чарнолуский, как и Волков, следовал «общесоциалистической» проблематике и использовал советскую объяснительную модель этнографических фактов.
Оба исследователя, прежде всего, профессионалы, поэтому у каждого из них есть собственный взгляд на информацию. Унаследованный от учителей эволюционизм они применяют по-разному, сама теория это позволяет. Находясь почти в одно время в одном и том же поле, обладая схожими сюжетами и материалами, ученые каждый по-своему интерпретируют одни и те же этнографические сюжеты и религиозные представления кольских саамов. Многофакторный подход позволяет избавиться от стереотипных оценок трудов советских этнографов.
Список литературы "Древнеишие верования" кольских саамов в работах советских этнографов В. В. Чарнолуского и Н. Н. Волкова
- Алымов С. С., Арзютов Д. В. Марксистская этнография за семь дней: совещание этнографов Москвы и Ленинграда и дискуссии в советских социальных науках в 1920-1930-е годы // От классиков к марксизму: совещание этнографов Москвы и Ленинграда (5-11 апреля 1929 г.) / Под ред. Д. В. Арзютова, С. С. Алымова, Д. Дж. Андерсона. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 21-90.
- Арзютов Д. В. Полевые программы Штернберга и Богораза: от концепции поля к категоризации этничности // Лев Штернберг - гражданин, ученый, педагог. К 150-летию со дня рождения / Под ред. Е. А. Резвана. СПб.: МАЭ РАН, 2012. С. 240-247.
- Волков Н. Н. Российские саамы. Историко-этнографические очерки / Под ред. Ч. М. Таксами, Л.-Н. Ласку. СПб.; Каутокейно, 1996. 109 с.
- Керимова М. М. Жизнь, отданная науке: семья этнографов Харузиных. М.: Восточная литература, 2011. 759 с.
- Кормина Ж. В., Панченко А. А., Штырков С. А. Социальные исследования религии: теория, методы и опыт // Антропологический форум. 2017. № 35. С. 129-166.
- Лукьянченко Т. В. В. В. Чарнолуский - певец Земли Саамской // Репрессированные этнографы. Вып. 2 / Сост. Д. Д. Тумаркин. М.: Восточная литература, 2003. С. 128-146.
- Панченко А. Б. Вклад народников в этнологическую теорию // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2013. № 3 (24). С. 78-84.
- Панченко А. Б. Народники как историки отечественного народоведения: В. Г. Богораз и Д. А. Клеменц // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2012. № 4 (19). С. 98-102.
- Решетов А. М. Репрессированная этнография. Люди и судьбы (Часть 1) // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.: МАЭ РАН, 1994. Вып. 4. С. 213-216, 221.
- Решетов А. М. Репрессированная этнография. Люди и судьбы (Часть 2) // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.: МАЭ РАН, 1994. Вып. 5-6. С. 353-355, 367.
- Токарев С. А. История русской этнографии (дооктябрьский период) / Под ред. Е. П. Прохорова. М.: Наука, 1966. 456 с.
- Чарнолуский В. В. В краю летучего камня. Записки этнографа / Отв. ред. и авт. послесл. и коммент. Т. В. Лукьянченко и Ю. Б. Симченко. М.: Мысль, 1972. 272 с.
- Чарнолуский В. В. Легенда об олене-человеке / Отв. ред. С. А. Токарев. М.: Наука, 1965. 140 с.
- Чарнолуский В. В. О культе Мяндаша // Скандинавский сборник. Вып. 11. Таллин: Ээсти Раамат, 1966. С. 301-315.
- Форум: Антропология религии (1) // Антропологический форум. 2017. № 34. С. 11-124.
- Форум: Антропология религии (2) // Антропологический форум. 2017. № 35. С. 11-128.
- Forum 34-35: Religion, anthropology, and the "anthropology of religion" // Forum for Anthropology and Culture. 2017. № 13. P. 11-137.
- Kormina J., Panchenko A., Shtyrkov S. Anthropological approaches to the study of religion: Theories, methods and field experiences // Forum for Anthropology and Culture. 2017. № 13. P. 138-160.