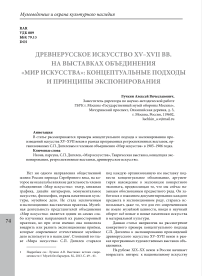Древнерусское искусство XV–XVII вв. на выставках объединения «Мир искусства»: концептуальные подходы и принципы экспонирования
Автор: Лучкин А.В.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются примеры концептуального подхода к экспонированию произведений искусства XV–XVII веков в рамках программных ретроспективных выставок, организованных С.П. Дягилевым и членами объединения «Мир искусства» в 1905–1906 годах.
Икона, парсуна, С.П. Дягилев, «Мир искусства», Таврическая выставка, концепция экспонирования, ретроспективные выставки, древнерусское искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/170210949
IDR: 170210949 | УДК: 009
Текст научной статьи Древнерусское искусство XV–XVII вв. на выставках объединения «Мир искусства»: концептуальные подходы и принципы экспонирования
Нет ни одного направления общественной жизни России периода Серебряного века, на которое не оказала бы влияние деятельность членов объединения «Мир искусства»: театр, книжная графика, дизайн интерьеров, монументальное искусство, философия, охрана памятников культуры, музейное дело. Не стала исключением и экспозиционно-выставочная практика. Музейная деятельность представителей объединения «Мир искусства» является одним из самых слабо изученных направлений их разносторонней практики, но при этом именно она позволила внедрить или развить экспозиционные приёмы, которые современное отечественное музейное дело использует и в наши дни1. Стоявший во главе «Мира искусства» С.П. Дягилев старался под каждую организованную им выставку подвести концептуальное обоснование, аргументируя нахождение в экспозиции конкретного экспоната, предвосхищая то, что мы сейчас называем обоснованием предметного ряда. Он заботился о взаимном документировании каждого предмета в экспозиционном ряду, стараясь использовать даже то, что для его современников не имело музейной ценности, вводя в научный оборот всё новые и новые памятники искусства и материальной культуры.
Данная статья направлена на рассмотрение конкретного примера концептуального подхода С.П. Дягилева к экспонированию произведений древнерусского искусства XV–XVII веков в рамках программных художественных выставок объединения.
На рубеже XIX–XX веков в России начинает возрастать интерес к национальному искусству допетровского времени, в частности, к иконописи. Формируются уникальные частные коллекции древнерусской живописи, открываются археологические и епархиальные древлехранилища. Как пишет М.Е. Каулен «<…> в конце XIX — начале XX веков в России была не только осуществлена подготовка общественного мнения к возможности музейного использования культовых памятников, но и сделаны первые практические шаги в этом направлении»2. Не согласиться с этим тезисом достаточно сложно. До середины XIX века в отечественной музейной практике не встречается экспозиционных примеров использования памятников иконописного искусства, парсун, церковной утвари или предметов материальной культуры допетровского времени в качестве отдельных разделов или экспозиционных комплексов. В лучшем случае выставлялось церковное искусство, как правило, совместно с рукописями, кремневыми орудиями первобытного человека, античными мраморами и многим другим, что к концу XIX века именовалось археологическими памятниками. Только в 1898 году в Санкт-Петербурге в здании Археологического института открылась выставка, которую можно назвать первой в своём роде, где в качестве экспонатов были представлены только памятники церковной старины3. Подчеркнём, что случай с данной выставкой — это единичное явление. Русскому традиционному искусству не нашлось места и на Исторической выставке предметов искусства, проходившей в музее барона А.Л. Штиглица в Санкт-Петербурге в 1904 году, при том, что начиналась экспозиция с античных памятников4.
К началу 1900-х годов в среде исследователей русского искусства, художников, философов, публицистов вновь остро встал вопрос о преемственности русского искусства, его генетической связи с европейскими мастерами, неповторимой самобытности допетровского наследия. В 1906
году журнал «Золотое руно» посвятил целый номер древнерусскому искусству. В одной из статей к тематическому номеру архивист, доктор теории и истории искусств, доктор богословия А.И. Успенский писал: «Известно, что русское искусство является одной из ветвей великого дерева — византийского искусства. Вначале церковные зодчие, иконописцы и мусийных дел мастера были у нас почти грек; церковная утварь, оклады на образа и Евангелия привозились из Греции или же изготовлялись в России греческими мастерами и их русскими учениками»5.
Весьма чуткий ко всему происходящему в культуре страны С.П. Дягилев не мог не обратить на это внимание. Подчёркивая особое значение объединения «Мир искусства» для популяризации древнерусского и народного искусства, искусствовед, художник, музейный деятель Н.М. Щёкотов писал: «В славные годы «Мира искусства» возросли внимание и любовь к произведениям старорусского художества, и казалось близким полное раскрытие его красоты, но, к сожалению, ещё не изжито было тогда ходячее представление о допетровской эпохе как о времени варварства, искусство древности казалось ещё созданием примитивного народного, вернее сказать, простонародного вкуса <…>. Во всяком случае, с этого времени древнерусская художественная культура не переставала пользоваться вниманием людей искусства»6.
Ещё в 1904 году в двенадцатом выпуске журнала «Мир искусства» С.П. Дягилев и А.Н. Бенуа помещают обширную статью уже упоминавшегося выше А.И. Успенского о Патриаршей ризнице в Москве7 и ставшую хрестоматийной статью И.Я. Билибина «Народное творчество русского Севера»8. Однако первым примером использования С.П. Дягилевым предметов искусства допетровской России в качестве экспоната, в рамках реализации концепции выставки, стал раздел, по- свящённый парсунам на Историко-художественной выставке русских портретов, открывшейся 6 марта 1905 года в Таврическом дворце.
Не следует считать, что С.П. Дягилев в рамках организованной им выставки портретов стал первым, кто обратил внимание на парсуну. Нет. Он стал тем, кто попытался показать перспективу развития портретного жанра в русском искусстве, не просто великих мужей отечества как таковых, а именно ретроспекцию национального изобразительного искусства, чем сильно отличался от своих предшественников9. В данной ситуации для него парсуны стали экспонатами, обладающими, прежде всего, информационной, а не эстетической значимостью. Для Дягилева иконография стала частью исторической ретроспекции, повлекшей за собой развитие научного подхода к изучению русской светской живописи XVII–XVIII веков. Для создания экспозиции первого зала выставки Дягилевым было отобрано 40 портретов.
Следует отметить, что для начала XX века изменение концептуального подхода к экспонированию произведения искусства, особенно допетровского периода, было достаточно радикальным решением. С.П. Дягилев не только сместил акценты в информативности экспоната, но и выдвинул его в качестве исторического источника в общей цепи концептуального решения самой выставки.
Концепция художественного решения Таврической выставки портретов предполагала создание экспозиционного пространства разделов в виде стилизованных интерьеров, в которые должны были быть вписаны произведения изобразительного искусства. Во-первых, это было связано с тем, что под выставку портретов комитету Дягилева было выделено пространство овального Белоколонного (Екатерининского) зала общей площадью 1 352,5 м², нуждавшегося в зонировании, а во-вторых, с тем, чтобы вписать произведения искусства в реконструированное интерьерное пространство той или иной эпохи, в которой они создавались.
В начале XX века многие не воспринимали допетровский период истории изобразительных искусств как целостный. Для уже европеизиро- ванного посетителя выставки, привыкшего к парадной застройке Санкт-Петербурга или просторным доходным домам Москвы, билибинские терема, с низкими проходами и орнаментально-стью, казались чем-то неуютным. Посетивший выставку художник А.А. Ростиславов писал: «Из мрачных палат, где со стен смотрят иконописные чёрные, но столь внушительные портреты первых Романовых и их соподвижников, мы переходим в светлый зал Петра»10.
Самое интересное, что посетители выставки не воспринимали зал парсун как первый, он для них был чем-то вроде предуведомления, прихожей. Корреспондент журнала «Нива» называл, например, первым залом именно зал с портретами периода правления Петра Великого11. И дело здесь не столько в восприятии мрачности царского терема первых Романовых, сколько в самом восприятии парсуны как таковой.
В начале XX века парсуна не воспринималась как нечто целостное и самобытное, самостоятельным этапом для развития портретного жанра в России. Начиная с 1851 года,12 исследователи портретов XVII века, сводят изучаемый вопрос к иконографическому и сравнительному методу исследования, не видя парсуну в цепи развития русского изобразительного искусства13. С.П. Дягилев попытался показать, что именно с парсуны и нужно вести историю становления портретного искусства в России. Это уже не икона, но светские зачатки изображения персоны в духе европейского портрета в ней наличествуют. Дизайнерское решение оформления пространства для этого раздела выставки тоже было выбрано не случайно. Приходя на выставку, посетитель должен был видеть, что парсуна — это интерьерная живопись и её место было в жилом пространстве XVII века. Но это концептуальное решение поняли далеко не все. В частности, ведущий художественный критик В.В. Стасов вообще анализировал вы- ставку по количественным показателям, сколько на ней портретов правящих монархов и их при-ближённых14.
Но были и те, кто «прочитал» выставочную концепцию Дягилева, определил заложенный в экспозицию потенциал. В журнале «Весы» за 1905 год в номерах 8–10 был опубликован обзор выставки Н. Степанова. В самом начале обзора автор пишет: «Можно изучать выставку с чисто художественной стороны, интересуясь лишь индивидуальными различиями художников и постепенным развитием художественного стиля. Или можно обозревать выставку с точки зрения историко-культурной. Последняя точка зрения, конечно, наиболее плодоносна, и драгоценна, но зато и наиболее трудна»15. Автор попал в своём обзоре в самую точку. С.П. Дягилев хотел показать именно историко-культурный контекст портретного искусства России, показать не столько художников как таковых или заострить внимание на иконографии, сколько воссоздать ретроспективу развития жанра и его роль в бытовом пространстве. Отсюда вытекали и художественные решения экспозиции, и сопроводительные экспозиционные тексты, перешедшие в содержание обширного каталога.
Анализируя выставку, автор подробно разбирает не столько экспонаты, её предметный ряд, сколько концептуальное решение, подмечая основные идеи, которые Дягилев закладывал в дизайн и обоснованность отбора экспонатов. Степанов стал, пожалуй, единственным современником выставки, который, начиная описание зала допетровского искусства, акцентировал внимание на его камерности и темноте: «Допетровское время выглядывает своими портретами из отдалённой и полутёмной палаты»16.
Авторами художественного решения выставки стали М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа и Л.С. Бакст. Роскошные дворцовые интерьеры и боскеты XVIII — первой половины XIX веков вступали в сильный контраст с залом допетровской Руси, оформленным в лучших традициях теремной архитектуры времён Алексея Михайловича, с любовью и пониманием эпохи, переработанной И.Я. Билибиным. Посетитель первого зала выставки видел не только первые примеры светской живописи, но должен был почувствовать, что художественным источником для парсуны стала не столько светская живопись Западной Европы, сколько иконописная традиция, тактично переработанная мастерами Оружейной палаты для всё сильнее обретающей светскость царской семьи и ближнего боярства, а также в первых попытках портретного изображения сподвижников молодого царя Петра Алексеевича.
Всё в том же очерке Н. Степанова мы встречаем такие слова: «Выставка не рассказывает о допетровском времени самостоятельной истории: собрание портретов XVII века — это не более как введение в последующие эпохи русской культуры. Не будучи в состоянии доставить самостоятельного понятия ни о жизни допетровского времени, ни о состоянии в ту эпоху, оно интересно как отправная точка и материал для сравнения при дальнейшем изучении»17. И действительно, для 1905 года внедрение допетровского искусства стало первой попыткой выстраивания дальнейшей линейки развития русского изобразительного искусства. Это было логическим завершением того, что активно началось в середине XIX века и было определено исследователем Г.И. Вздорновым как формирование вкуса к древнерусской живописи в широких кругах любителей отечественной истории и художественной старины18.
Историко-художественная выставка портеров имела невероятную по тем временам популярность. За всё время её работы с 6 марта по 26 сентября 1905 года экспозицию посмотрело 45 000 человек, чистая прибыль за проданные билеты и сувенирную продукцию составила 60 000 рублей, что с переводом на сегодняшний курс составляет около 80 000 000 рублей. Пожалуй, не было ни одного периодического издания в Российской империи, которое бы не посвятило хоть сколько-то места для обзора или упоминания о выставке.
Ободрённый положительным опытом выставки портретов С.П. Дягилев решил пойти ещё дальше и ввести в генетическую цепь русского искусства изобразительные памятники более раннего периода — иконы XV–XVII веков. Но показать их не в России, а сразу в формате международного выставочного проекта.
С 15 октября по 11 ноября 1906 года при парижском Осеннем салоне была открыта выставка «Два века русской живописи и скульптуры». Выставке суждено было стать не только первой ретроспекцией русского искусства за рубежом, но и последним крупномасштабным выставочным проектом уже прекратившего к тому времени своё существование художественного объединения «Мир и скусства».
Произведения русских художников и прежде выставлялись на многочисленных европейских вернисажах, но зачастую это были работы современных мастеров. Данная же выставка была призвана показать эволюцию русского искусства в хронологической и логической последовательности его развития . С.П. Яремич писал: «Нынешняя выставка может быть названа первой русской художественной заграничной выставкой, так как на ней было собрано если не всё, что есть самого живого, типичного и интересного за двухсотлетнее существование русского искусства, то, во всяком случае, значительная его часть»19. Не последнее место на этой выставке занимала русская иконопись.
Для членов объединения «Мир искусства» 1900-е годы стали началом просветительского периода, если можно так выразиться, знакомства европейской общественности с русским искусством и культурой. Ярче всего это проявилось на выставке 1906 года в Париже20, затем в том же году её показали в Берлине, а в 1907 году в сокращённом варианте на VII Венецианском изобие-нале. Г.Ю Стернин отмечает: «По своей представительности экспозиция 1906 года значительно превосходила все предшествующие зарубежные выставки русского искусства. Продолжением этой дягилевской инициативы стали знаменитые
«Русские сезоны» в Париже, открывшиеся в 1909 году и кроме всего прочего познакомившие парижскую публику с достижениями русской театральной живописи»21.
Первоначальная идея проведения выставки принадлежала А.Н. Бенуа, он даже пытался привлечь к её организации известного мецената Н.П. Рябушинского, издателя журнала «Золотое руно», но потерпел полную неудачу. Но при этом, видимо, идея популяризации русской иконописи Рябушинского не покидала, поскольку в том же 1906 году, как уже отмечалось выше, выходит тематический номер «Золотого руна», а в 1914 году третий выпуск «Русской иконы», основанный на коллекции Н.П. Рябушинского. Это были не единственные заимствования Рябушинского из выставочной практики «Мира искусства». Показательными стали выставки журнала «Золотое руно», организованные в 1908 и 1909 годах, когда адепты Дягилева отошли от выставочной деятельности, а накопленный практический экспозиционный материал позволял его масштабировать для нужд художественных выставок22.
Не получив поддержки от состоятельного мецената, А.Н. Бенуа предложил реализовать эту идею Сергею Дягилеву. «Не имея на родине никакого официального положения, Серёжа добился того, что сам государь не только разрешил повезти в чужие края лучшие картины и скульптуры русской школы из дворцов и музеев, но и принял на себя расходы по этой грандиозной затее»23.
К открытию выставки А.Н. Бенуа составил каталог, в предисловии к которому С.П. Дягилев писал: «Настоящая выставка представляет небольшой обзор развития нашего искусства, составленный под современным углом зрения, все части которой оказали прямое воздействие на современный характер нашей страны. Это правильный образ современной художественной России, её правдивого одушевления, её почтительного восхищения перед прошлым и её пылкой веры в будущее»24. Этим определялась и задача выставки, и её концепция — представить русское искусство в его развитии и показать, что художники «Мира искусства» — его прямые правопреемники.
В своих воспоминаниях А.Н. Бенуа пишет, что на выставке было представлено: « <...> свыше 700 предметов; среди них было 36 икон < …>»25. 35 икон, экспонировавшихся на выставке в Осеннем салоне, были предоставлены в распоряжение С.П. Дягилеву Н.П. ЈІихачёвым. Коллекция иконописи этого известного исследователя русского искусства, историка-медиевиста была одной из самых крупных для начала XX века. Обращаясь к Н.П. Лихачёву с просьбой предоставить иконы для выставки русского искусства в Париже, С.П. Дягилев писал: «Конечно, никто кроме Вас не может доставить выставке столько красот и сокровищ»26.
Одна икона, именуемая в каталоге под номером 202 как «Икона русской работы 1645 года», происходит из коллекции М.А. Хитрово27.
Перечень газетных статей, посвящённых выставке, весьма обширен: от краткого обзора парижской прессы28, до пространных статей российского зрителя.
О размещении экспонатов и художественном решении выставки сохранилось очень мало сведений. Однако, то немногое, что в настоящее время является для нас источником для анализа экспозиции 1906 года, позволяет говорить, что данная выставка стала воплощением всех теоретических и практических идей, наработанных С.П. Дягилевым и представителями «Мира искусства» на тот период времени. Пожалуй, наиболее подробно выставку описал один из её участников — князь Александр Константинович Шервашидзе. «Выставка занимала 13 залов Большого Елисейского дворца, составляла вполне независимую часть
Осеннего Салона. Залы были распределены так, что, входя в первую, посвящённую древним иконам XV, XVI, XVII столетий, доходишь до Мусатова и Кузнецова»29.
В художественном решении залов целиком и полностью прослеживалась уже ставшая классической экспозиционная концепция Дягилева. Особое место в отделке отводилось цвету. Цветовая драматургия, выработанная Дягилевым и с блеском прошедшая на выставке 1905 года, преследовала всё те же цели: на символическом уровне отразить характер и значение того или иного периода развития русского искусства. Автором художественного проекта оформления экспозиции был, как и на выставке портретов, Л.С. Бакст, однако первоначальные проектные эскизы постоянно корректировались С.П. Дягилевым. Зал, посвящённый иконописи, был обит золотой парчой. Против такой отделки выступал А.Н. Бенуа. В своих воспоминаниях он писал, что «общее впечатление от иконного зала было театрально-эффектным, но сами эти строгие образцы древней живописи терялись среди всего такого сверкания, а их краски казались тусклыми и грязными»30. В своих дневниках художник писал: «Я возмущён, что обивка залов Левицкого и иконного стоит 4 000 рублей!»31. На критическое отношение к концепции выставки, особенно на её художественное решение, некогда лояльного к Дягилеву А.Н. Бенуа, указывают и современные биографы Сергея Дягилева32.
Критическое отношение к выставке Бенуа — едва ли не единственное. Так, уже упоминавшийся А.К. Шервашидзе писал: «Внешний вид выставки, её декоративное убранство, уютность комнат, скромная роскошь первых трёх комнат, обитых местами мерцающей парчой, изящный зелёный боскет, с великолепным бюстом Павла посредине, с зеленью и цветами на вышивках и кое-где внизу, поразивший французов, — прекрасен»33.
Для создателей выставки, как сейчас принято говорить — проектировщиков, художественное решение имело высокое семантическое значение. Допетровский раздел выставки контрастирует с разделом XVII века на Таврической выставке. Парижской публике предлагалось посмотреть на русскую икону не только как на произведение искусства, но и как на неотъемлемую часть полного смыслов интерьера древнерусской хромой архитектуры с её сакральным значением. В предисловии к каталогу выставки А.Н. Бенуа писал: «Созерцая эти образы, почтенные своей древностью, своей красотой и пламенной верой, предметом которой они были на протяжении долгих веков, охватывает то же восхитительное и острое ощущение, которое охватывает при входе в древние храмы Москвы, в эти узкие и тёмные храмы, благоухающие ладаном, освещённые тут и там маленькими жёлтыми свечами, от которых темнеющее золото огромного иконостаса поднимается к темноте свода»34. Вот оно это золото парчовой драпировки, уходящей в высоту искусственного потолка Большого дворца Елисейских полей, за которую соавторы выставки так ругали С.П. Дягилева! Согласно его замыслу, посетители выставки должны были войти в храм, оказаться в этом таинственном мерцающем пространстве, наполненном в высокой степени семиотическими произведениями станкового искусства, которые только-только начинали входить в научный оборот как памятники материальной культуры и носители не только сакральной информации.
Эффект акцента времени усиливало отсутствие в залах Осеннего салона окон. Освещение залов осуществлялось в утренние часы через стёкла атриума, а в вечерние — люстрами. Освещение зала иконописи было таковым, что большая его часть была направлена на драпировку, и в общем искрящемся блеске отделки на посетителей взирали суровые затемнённые лики православных святых.
Дягилев сделал то, что до него никто не предпринимал: он не только представил икону в качестве экспоната в выставочном пространстве, приближенном к среде её бытования, но и предложил взглянуть на неё как на произведение искусства. Сейчас, когда мы уже часто видим иконописное наследие в пространстве художественных и исто- рических музеев как атрибутированный музейный предмет (иконописные школы, материалы, техника, история бытования, в некоторых моментах даже авторство), такой подход кажется чем-то декоративно-архаичным, но между тем это был первый пример представления иконописного наследия именно как полноправного экспозиционного материала, не имеющего отношения к развитию церковного искусства, а представленного самостоятельной вехой в развитии нашей культуры. В 1914 году известный историк русского искусства, художественный критик Н.Н. Пунин, анализируя приобретённую императором Николаем II и переданную в Русский музей коллекцию иконописи Н.П. Лихачёва, напишет: «Теперь, когда ещё так молоды наши исторические искания, а научное наследие, нами полученное, так незначительно, мы можем делать только попытки анализа той или иной иконы»35. Сергей Дягилев пробовал провести такой анализ экспозиционными приёмами и это ему удалось.
Парижская публика была восхищена и поражена одновременно, отечественная же пресса расхваливала достоинства выставки и заслуги организаторов. Это был очередной оглушительный успех выставочной деятельности С.П. Дягилева и художников «Мира искусства». Посещаемость выставки превзошла даже успех Таврической. Меньше чем за месяц выставку в Париже посетило 60 000 человек36.
Подводя итоги, можно сказать, что выработанный в начале XX века С.П. Дягилевым концептуальный подход к экспонированию искусства допетровского времени сильно повлиял на формирование у публики интереса к некогда забытому периоду отечественной культуры. Взятый великим импресарио курс на представление нашей самобытной истории искусства за границей оказал заметное влияние на внедрение русского стиля в европейское искусство в течение ближайших двадцати лет.