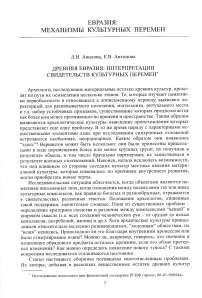Древняя Евразия: интерпретации свидетельств культурных перемен
Автор: Авилова Л.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 223, 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14328020
IDR: 14328020
Текст статьи Древняя Евразия: интерпретации свидетельств культурных перемен
ЕВРАЗИЯ:МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРНЫХ ПЕРЕМЕН
Л.И. Авилова, Е.В. Антонова
ДРЕВНЯЯ ЕВРАЗИЯ: ИНТЕРПРЕТАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ КУЛЬТУРНЫХ ПЕРЕМЕН*
Археологи, исследующие материальные остатки древних культур, проходят на пути их осмысления несколько этапов. Те, которые изучают памятники первобытности и относящиеся к дописьменному периоду, выявляют характерный для раскапываемого поселения, могильника, ритуального места и т.д. набор устойчивых признаков, существование которых предполагается как более или менее протяженное во времени и пространстве. Таким образом выявляются археологические культуры, выяснение происхождения которых представляет еще одну проблему. В то же время наряду с характерными вещественными элементами даже при исследовании синхронных отложений встречаются необычные, неординарные. Каким образом они появились “здесь”? Вариантов может быть несколько: они были принесены пришельцами в ходе перемещения более или менее крупных групп; их получили в результате обмена, в том числе брачными партнерами; их заимствовали в результате военных столкновений. Наконец, нельзя исключать возможности, что под влиянием со стороны соседних культур местные явления материальной культуры, которые изменялись по причинам внутреннего развития, могли приобретать новые черты.
Исследовательская ситуация облегчается, когда объектами являются памятники письменных эпох, когда отношения между носителями тех или иных культурных комплексов, как правило богатых и разнообразных, отражаются в свидетельствах различных текстов. Положение археологов, лишенных такой поддержки, значительно сложнее. Одна из существенных проблем -определение критериев сходства и различия между комплексами “вещей” в широком смысле (т.е. всех созданий человеческих рук - от орудия до целых комплексов, погребений, жилищ и др.). Хотя архаические культуры принадлежали относительно медленно развивающимся, “холодным” обществам, их “вещи” менялись. Происходило ли это благодаря внутренним процессам или было стимулировано извне? Можно ли, например, говорить, что значение и назначение обрядового предмета осталось прежним, если его облик претерпел изменения? Как можно определить появление нового этноса? С такими вопросами исследователи сталкиваются постоянно.
Статьи настоящего сборника посвящены многочисленным проблемам. Их авторы, добывая в раскопках вещественные остатки древних культур
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 06-01-00044а).
(в основном энеолита - эпохи бронзы, но также железного века), разносторонне исследуя и интерпретируя их, стремятся выяснить, чем вызвано появление новых явлений в жизни их создателей. Поэтому круг вопросов, затрагиваемых в статьях, чрезвычайно широк. Что заставляло людей открывать способы использования различных материалов, осваивать новые технологии? Были ли это потребности, диктовавшиеся выживанием, или “рациональное” и “иррациональное” теснейшим образом переплеталось так, что современный человек может с трудом понять мотивы действий древних? Каким образом взаимодействовали создатели археологических комплексов и культур внутри своих образований и за их пределами и как в материальных остатках можно выявить свидетельства этих взаимодействий? Какие социальные механизмы позволяли сохранять стабильность архаических обществ, испытывавших воздействия со стороны более или менее отдаленных соседей? Современное состояние археологии, невероятно расширившаяся база источников, революционные изменения в сфере гуманитарных наук, использование методов естественных наук, расширяющее возможности этих источников, и многое другое позволяет не только определить новые, но иначе взглянуть на традиционные проблемы. Огромное количество данных было получено в тех регионах Евразии, памятники которых являются объектами анализа в статьях настоящего сборника. Это Балканы, Передняя и Центральная Азия, степи Восточной Европы.
Одна из старых проблем связана с изучением миграций. Люди, начиная с их появления на Земле, всегда перемещались. Даже с наступлением оседлости, когда пребывание на одном месте, в определенной зоне пространства, стало краеугольным камнем мировосприятия, менять места обитания все же приходилось. К этому побуждал рост населения, изменения климата и другие обстоятельства. Уже давно одним из главных регионов исследования миграций стали степи Евразии эпохи энеолита-бронзы. Именно в связи с исследованиями степных культур были сформулированы концепции широкомасштабных миграций скотоводческих обществ. Появление новых данных и изменение научной парадигмы позволило иначе, чем прежде, взглянуть на происходившее в то время и предложить модель, предполагающую явления гораздо более сложные и неоднозначные. То, что представлялось как дальние миграции в одном направлении, предстает сейчас как длительные и незначительные передвижения групп населения, в том числе “маятниковые” перемещения (статья А.Н. Гея). Такие перемещения могли сочетаться с контактами в ходе обмена, восприятием новаций в технологической сфере и т.д.
Археологи прежде нередко отождествляли “движение вещей” с движениями групп населения. В этой связи очень важно заключение А.Н. Гея о существовании ситуаций, когда векторы движения населения не только не совпадали, но были противоположны направлениям движения “вещей” в широком смысле - идей, технологических приемов, собственно вещей.
В настоящее время усиливается внимание к специфике анализа археологических свидетельств как историко-культурных источников. Что рассматривать как единицу анализа? Отдельные, пусть даже значимые комплексы, каковыми являются, в частности, погребения ямной, катакомбной, срубной культур, как долго предполагалось, сменяющих друг друга? В статье М.В. Андреевой предлагается перенести акцент исследований с собственно погребений на системы более высокого уровня - курганы и могильники. На материалах погребального обряда создателей катакомб Верхнего Маныча автор обнаруживает наряду с новыми чертами признаки культурной преемственности. Изучение взаиморасположения погребений как одно-, так и разнокультурного облика позволило выдвинуть идею существования традиции “наследования” могильного сооружения. В результате создавалось нечто вроде склепа или ярусного погребения. Появление новых обрядовых норм могло быть следствием не миграции, а осознанного стремления выразить через их посредство формы социальной организации, дуальной, реализовавшейся в различных ситуациях через бинарные оппозиции.
В статье Н.А. Николаевой рассматриваются проблемы миграций носителей “древнеевропейской” языковой общности из Центральной Европы на Северный Кавказ в конце III - начале II тыс. до н.э. Археологическими доказательствами этих миграций является сравнительно-типологический анализ керамики и погребального обряда, особенностей надмогильных сооружений культуры шаровидных амфор, шнуровой керамики и кубано-терской культуры, выделенной автором. Среди лингвистических обоснований миграций -“древнеевропейские” гидронимы Северного Причерноморья и Северной Осетии. Автор приходит к выводу о миграционном происхождении бронзового века Северного Кавказа.
Письменные источники Ш-П тыс. до н.э. содержат свидетельства о крупномасштабных миграциях на Ближнем Востоке (статья В.И. Мельника). В поисках их причин автор обращается к данным палеоклиматологии, анализируя данные о среднегодовых температурах и количестве осадков. Предполагается, что массовые миграции были вызваны экстремальными природными условиями. Следует заметить, что для установления жесткой зависимости миграций от климатических изменений необходимо корректировать данные письменных источников, часто тенденциозных и никогда не дающих полной картины событий, информацией о связи поселений с палеоландшафтными зонами. В настоящее время сведений такого рода для столь обширного региона у нас нет, хотя объем этих данных расширяется. Кроме того, как показали исследования в Северной Месопотамии, изменения в климате сказываются менее болезненно в регионах с разнообразными природными условиями, где переселения в случае ухудшения экологии происходили на близкие территории (аналогичная ситуация отмечается для эпохи поздней бронзы Южного Туркменистана).
Работа А.В. Сафронова посвящена рассмотрению этнополитических процессов, связанных с миграциями “народов моря” (конец XIII - начало XII в. до н.э.). Автор полагает, что разрушение микенских центров Южной Греции во второй половине XIII в. до н.э. вызвало отток греческого населения в Восточное Средиземноморье. Ахейцы колонизируют Кипр и южное побережье Малой Азии. Возникший военный конфликт между ахейцами и населением северо-запада Малой Азии вызвал новую миграцию из этого региона в Левант и Египет. Этот конфликт зафиксирован в египетских источниках и в греческой эпической традиции (цикл преданий о Троянской войне).
В связи с миграционными процессами Ш-П тыс. до н.э. на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье возникает проблема взаимоотношений пришельцев и местного населения, общественные структуры которого были более развитыми. Могли ли “варвары”, вторгшиеся в Египет в конце III тыс. до н.э., существенно повлиять на традиционные институты государства и культуру в широком смысле? То же самое относится к Месопотамии, подвергавшейся набегам кутиев, луллубеев и т.д. Преемственность традиций в зонах древних цивилизаций было трудно поколебать, хотя некоторые перемены пришельцы могли стимулировать. В этом отношении примечательна история хеттов, вступивших в культурный диалог со своими иноязычными предшественниками. Результатом этих отношений было сложение хеттского государства, в котором этнические субстраты играли значительную роль.
Перемены в сфере производственной деятельности не всегда позволяют увидеть за ними явления в социальной сфере. Тем не менее, накопление и анализ массовых данных позволяют расширить возможности реконструкций. Выразительные данные о металлопроизводстве получены для огромных регионов, в частности, Анатолии и Балкан (статья Л.И. Авиловой). Сравнение моделей деятельности древних в неолите - средней бронзе позволяет выявить их особенности и в конечном счете может способствовать пониманию специфических особенностей их социального развития.
Существенно облегчается положение исследователя археологических данных, когда он может привлекать свидетельства письменных текстов. Однако очевидно, что древние тексты содержат бесценные, но все же отрывочные сведения о соседях, с которыми их создатели поддерживали прямые, а чаще опосредованные отношения. К этому надо добавить, что эти сведения кратки и обычно мифологизированы. До сих пор неясно, где находилась пресловутая Аратта, с правителем которой обменивался ценностями и состязался в мудрости правитель Урука Энмеркар. На протяжении всего бронзового века бытовали цивилизации, которые, хотя и обладали письменностью, донесли до нас в своих текстах очень незначительную информацию. Кроме того, эти тексты зачастую еще не дешифрованы окончательно (пример - хараппская культура). Ясно, что роль археологических свидетельств и в эту эпоху, да и позднее, продолжает быть очень значительной.
Несколько лучше обстоят дела с исследованием материалов территорий, сведения о которых дошли от античных историков и географов. Сопоставление их с большими и разнообразными по составу массивами археологических памятников, выявление характерных комплексов (в которых недостаток одних категорий компенсируется информативностью других) позволяет в ряде случаев локализовать обособленные группы населения и реконструировать характер их взаимоотношений (статья А.Ю. Скакова).
На исследования в области реконструкций древних культур, в частности дописьменных или бесписьменных, оказывают влияние исследования этнологов и культурологов. О расслоении культуры на низовую и верхушечную в пору сложения сложноструктурированных обществ написано очень много.
Верхи общества всегда склонны к интернационализации “своей” культуры, к принятию иноземных стандартов, служащих знаками их социальной обособленности. Но вряд ли в древности разрыв между “двумя культурами” был столь силен, как в позднейшие эпохи, когда традиционная культура могла даже целенаправленно разрушаться. Скорее традиционная культура в своем “низовом” сегменте способна обладать большой социосохраняющей силой (при этом следует отметить слабую обособленность и малую оформленность элиты обществ, не достигших состояния развитых государств). Взаимодействие культурных явлений двух подсистем было в традиционных обществах систематическим и взаимообогащающим.
Одна из проблем, волнующая как археологов, так и их коллег, в частности этнографов, - соотношение культуры и этноса. Работы этнологов, этнографов, фольклористов в области “живых” культур всегда привлекали внимание археологов из-за наличия в них тех явлений, которые остаются за пределами материальных остатков древности. Исследования в области соотношения культур и этносов, особенности взаимоотношений этносов в разных регионах современного мира могут помочь моделированию процессов, имевших место в древности, разумеется, если они опираются на достаточно информативные археологические данные. Можно предполагать, что древние сообщества (носители археологических культур), по крайней мере с утверждением производящего хозяйства и оседлости, были неоднородными с точки зрения их происхождения и языковой принадлежности (статья Л.А. Чвырь). Разумеется, перенесение ситуации современных или относительно недавних традиционалистских обществ на древность не может быть непосредственным. Скорее речь может идти о некоем векторе, помогающем соотнести археологические свидетельства, культуру и этнос.
В области взаимоотношений обитателей разных регионов, передачи и восприятия элементов культуры, интереснейшие и многозначительные сведения дают памятники Месопотамии и соседних регионов начиная с V тыс. до н.э. и позднее. Особенно любопытна так называемая “урукская экспансия”. Группы обитателей юга Месопотамии и Сузианы проникали далеко на Иранское плато, на территорию современной Сирии вверх по Евфрату. Они вступали в контакты с местным населением для получения необходимого им сырья, при этом отношения эти, судя по имеющимся данным, были мирными.
Еще более многозначительны сведения о торговых поселениях начала II тыс. до н.э. в Анатолии, в первую очередь в Канише, где обнаружено много текстов. Они показывают, что население здесь было полиэтничным, из чего, конечно, не следует, что носители разных этносов жили вперемешку. В этих условиях при сохранении элементов своей культуры (что, в частности, прослеживается по традиционным мотивам глиптики), осуществлялись заимствования в различных сферах, в том числе религиозно-обрядовой сфере, в восприятии черт инокультурных божеств и ритуальных символов.
Сочетание многих причин - климатические изменения, потребности создания новых форм хозяйствования и социальные трансформации, историческая ситуация в Передней и Центральной Азии, обмен и торговля и т.д. - привело к возникновению Бактрийско-маргианского археологического комплекса, или цивилизации Окса. В одной из статей (Е.В. Антоновой) предпринимается попытка проследить преемственность традиций на территориях ее бытования на протяжении нескольких тысячелетий и взаимодействие древних культурных явлений с новыми инокультурными влияниями. Образы мифологических и социально выдвинутых персонажей, некоторые ритуалы, воспринятые в эламо-месопотамском и сиро-анатолийском мире, в хараппской цивилизации, способствовали переоформлению и усложнению традиционных мотивов, большей визуальной выраженности их смыслов.
Примечательно, что антропологические исследования привели к заключению о полиморфизме населения крупнейшего поселения БМАК - Гонур депе (статья Н.А. Дубовой). Эти данные согласуются с многочисленными и чрезвычайно выразительными сведениями об отдаленных торговых контактах, предполагающих перемещения людей.
Авторы Введения ставили целью обозначить лишь некоторые важные проблемы, которые нашли отражение в статьях настоящего сборника. Разумеется, содержание их несравнимо богаче, в чем читатели, несомненно, убедятся. Статьи сборника не предполагают единого подхода авторов к проблемам, напротив, одна из его целей - продемонстрировать многообразие позиций авторов, которые могут дополнять друг друга, а могут и находиться в противоречии.
Представляется целесообразным остановиться на ряде проблем, связанных с применением металла и его функционированием в системе обмена.
Металл может быть широко использован в историко-археологических исследованиях как маркер многих культурных и социальных процессов древности. Этот материал в последнее время привлекает к себе большое внимание, поскольку он позволяет ставить и решать проблемы развития древних производств, включая раннюю металлургию и металлообработку, механизмы распространения технических инноваций. Во-первых, металл был одним из наиболее ценных видов сырья, добывавшихся для производства обширного репертуара изделий в тех группах, которые имели доступ к источникам минерального сырья. Во-вторых, он активно циркулировал в системе товарообмена. Поэтому исследования, связанные с ролью и местом металла в древних обществах, подразумевают также постановку широких вопросов культурного и социального развития, реконструкцию моделей функционирования древних общественных структур. Период, получивший название эпохи раннего металла (энеолит и бронзовый век, V—II тыс. до н.э.), ознаменован рядом фундаментальных изменений в развитии общества, таких как становление городских цивилизаций и ранних государств, интенсификация взаимодействия человеческих коллективов, передача культурных и технологических достижений на огромные расстояния. В последние десятилетия интенсивно развивается археометаллургическое направление исследований, что во многом связано с новыми возможностями комплексного изучения древних металлических находок с применением технических средств, включая массовые статистические и аналитические исследования.
До относительно недавнего времени в среде археологов и культурологов было широко распространено мнение о том, что основной причиной освоения человеком меди и бронзы была практическая необходимость. Однако новые открытия в области архсометаллургии указывают на большую роль неутилитарного фактора в процессе возникновения, добычи и обработки металлов. В репертуаре древнейших металлических находок преобладают изделия, которые являлись украшениями и/или знаками социального престижа. Наиболее вероятно, что стимулом к изготовлению ранних металлических изделий было в первую очередь стремление к созданию отличительных знаков социально выделенных лиц или групп. Такими знаками могли служить предметы, выполненные с особыми затратами труда, чаще всего из редких, практически всегда привозных, материалов. Получение предметов роскоши или особо ценного сырья обеспечивала разветвленная система обмена на далекие расстояния, функционировавшая на обширных территориях начиная с глубокой древности.
Исследователи архаичного обмена подчеркивают, что в этой системе циркулировали в основном объекты, относящиеся к категории престижных и ценных предметов, в которых нуждалось не рядовое население, а элита. Именно она обладала возможностями для интенсификации производства и накопления излишков продукции, которые и вовлекались в обменные отношения.
Одним из мощных стимулов экономического и социального развития ближневосточного общества в позднем энеолите и бронзовом веке был прогресс металлопроизводства. Изделия из различных металлов, использовавшиеся в качестве престижных объектов, в притоке которых была заинтересована социальная верхушка, играли большую роль в выработке идеи богатства, что в свою очередь было заметным фактором эволюции от эгалитарного к иерархическому обществу.
Увеличение объемов производства металла влекло за собой все более массовое изготовление разнообразных орудий и значительный прогресс в развитии многих ремесел, прежде всего плотницкого и кораблестроительного, что имело решающее значение для развития транспорта и значительно расширяло сеть обмена. Распространение разнообразных видов металлического оружия вызвало подлинный переворот в военном деле. Все эти факторы оказывали значительное давление на древние общества в направлении поисков рудных источников и увеличения объемов производства металла. Таким образом, металл выступал и как объект, и как инструмент интенсификации обменных отношений.
Общины, освоившие металлопроизводство или вовлеченные в систему обмена, в которой циркулировал металл, получали перспективу значительного численного роста, одновременно происходил процесс трансформации вождества в ранние формы царской власти, превращения эгалитарного общества в дифференцированную ранговую структуру. В городских общинах эпохи Убейда уже функционировали социально привилегированные группы, связанные с контролем над производством и распределением сельскохозяйственной и ремесленной продукции (система ирригации, хранилища общинных запасов зерна). Тенденция к укреплению власти элиты приобретает особенно четкие формы в эпоху Урука, для которой характерна ведущая роль храмового хозяйства с организованным учетом продуктов и нормированием потребления. Такая модель социально-экономического развития, основанная на функционировании дифференцированных групп, обеспечивала условия для работы специализированных ремесленников (горняков, металлургов, литейщиков и кузнецов, ювелиров, плотников, строителей).
Развитие обменных отношений привело к возникновению сложной системы взаимосвязей, в которую входили земледельческие цивилизации аллювиальных долин - производители сельскохозяйственной продукции - и обитатели предгорий и горных плато, практиковавшие комплексное хозяйство, в котором важную роль играли скотоводство и добыча минеральных ресурсов. Потребность тех и других элементов системы в определенных товарах была мощным катализатором развития экономики и социальных отношений.
Следует подчеркнуть роль предгорных территорий в развитии сети обменных отношений. Как доказал Н.И. Вавилов, открытие земледелия произошло не в плодородных аллювиальных долинах, а в предгорной зоне, где произрастали дикие предки зерновых культур и имелись благоприятные условия для сезонного орошения возделанных участков. Знаменательно, что из этой же зоны происходят древнейшие металлические изделия IX-VII тыс. до н.э. Это Чайоню-тепеси, Халлан Джеми, Ашикли Хююк, Невали Чори, Джан Хасан, Чатал Хююк в Анатолии, Али Кош, Шанидар и Тепе Сиалк в Иране, Телль Рамад в Палестине, Телль Магзалия и Ярымтепе I в Ираке. Из предгорных зон происходят и самые яркие комплексы металлических изделий эпохи Убейда (Сузы I) и Урука (некрополь Тепе Тавры, клад из Арслан-тепе VIA, майкопские древности).
Особую роль в отношениях земледельческих общин с горными племенами скотоводов и металлопроизводителей играли сельскохозяйственные продукты (зерно, масло), а также ремесленная продукция (ткани). В недрах земледельческих цивилизаций вырабатывались и такие интеллектуальные достижения, как письменность, наборы изобразительных мотивов, наконец, моды - одежда, прически, служившие признаками общественного статуса. Именно такова схема отношений с соседями Египта и Месопотамии - крупнейших производителей продовольствия, где высокие урожаи зерновых позволяли создавать стратегический ресурс экономики, использовавшийся, в частности, для обмена и широкого распространения многих элементов культуры. Необходимо отметить, что высокие урожаи в аллювиальных долинах не были гарантированными: существовала постоянная угроза засух, нерегулярные разливы рек уничтожали посевы. Именно эти факторы в условиях постоянного роста населения имели ключевое значение для формирования таких характерных черт месопотамской цивилизации, как централизованный контроль над земледельческими работами и ирригационными системами, рационирование потребления с целью создания резервов продовольствия. Запасы, хранившиеся в храмовых житницах, могли использоваться в случае неурожая, для обмена, поддержания власти элиты, создания крупных вооруженных отрядов. Негарантированный успех земледелия создавал почву для соперничества и милитаризации политики южномесопотамских городов-государств; серии находок металлического оружия из некрополей Ура и Киша Раннединастического периода - красноречивое свидетельство завершающей фазы этого процесса. Вероятно, рост городского населения и риск локальных неурожаев были среди причин, вынуждавших урукские общины организовывать дальние торговые экспедиции и основывать колонии далеко за пределами аллювиальной долины.
Отсутствие минеральных ресурсов в Южной Месопотамии служило стимулом для интенсификации обмена на далекие расстояния и тем самым для расширенной добычи ценных и экзотических материалов - дерева, металлов, строительного и поделочного камня в регионах, располагавших такими ресурсами. Схема развития обменных отношений напоминала геометрическую прогрессию. Высокой интенсивностью обмена отмечен поворотный момент в истории Переднего Востока - урукский период. Древнейшие государства ведут интенсивное храмовое строительство, велика потребность в привозных материалах; элита, связанная с храмовыми хозяйствами, этими центрами общественной и хозяйственной жизни, выступает как организатор обмена. Именно храмы играли определяющую роль в функционировании широкой сети обменных связей урукского периода. Показательно, что согласно представлениям самих шумеров, обмен сырьем, в том числе металлами, осуществлялся с целью строительства и украшения храмов (выразительный рассказ об этом мы находим в эпическом произведении “Энмеркар и правитель Аратты”).
Естественно, что разнообразие природных условий и путей общественного развития в различных регионах древнего мира проявлялось и в существенных особенностях освоения, производства и циркулирования металла.
При чрезвычайно раннем знакомстве с новым материалом развитие горно-металлургического и металлообрабатывающего производства в Передней Азии шло крайне медленно вплоть до IV тыс. до н.э. Находки металлических вещей чрезвычайно редки, репертуар ограничен мелкими орудиями и украшениями, изготовленными из самородной меди. Парадокс заключается в том, что при наличии серий медных изделий (так, например, в Чайоню-тепеси общее количество металлических находок VIII—VII тыс. до н.э. составляет 113, а в Ашикли Хююке - 45) знания о металле имеют латентный характер и в течение нескольких тысячелетий не получают воплощения в развитии конструктивных и утилитарных свойств производимой продукции. Судя по всему, неолитическое общество (а многие памятники с находками наиболее древних изделий из металла относятся еще к докерамическому неолиту) было не готово к восприятию металла как практически применимого инновационного материала. Он оставался не востребованным в производственной сфере до наступления эпохи позднего энеолита и даже ранней бронзы.
Эта картина становится еще более выразительной, если сравнить территории Переднего Востока и Юго-Восточной Европы, где процесс освоения металла имеет совершенно иной характер. На Балканах первые металлические изделия появляются значительно позднее, в поздненеолитических культурах Марица и Сава конца VI тыс. до н.э. Уже в V тыс. до н.э. происходит поразительно яркая вспышка мсталлопроизводства в среде северобалканских и карпатских племен (культуры Гумельница-Караново VI-Варна). Здесь известны сотни тяжелых, металлоемких медных орудий и оружия, серии золотых изделий (некрополь Варны), открыты масштабные горные выработки (Аи Бунар). Наступление периода ранней бронзы на Балканах ознаменовано крупнейшими изменениями практически во всех областях культуры. На смену энеолитическим домам из глиняных блоков приходят легкие жилища каркасно-столбовой конструкции, исчезает расписная керамика и богатая зоо- и антропоморфная пластика, металлические находки становятся исключительно редкими, нет следов использования драгоценных металлов.
Из сравнения мсталлопроизводства Анатолийского и Балканского регионов выясняется, что модели его функционирования были кардинально различны: в Анатолии - раннее знакомство с металлом, его медленное проникновение в практическую сферу при ограниченном производстве в энеолите, рост объема производства и морфологического разнообразия в эпоху ранней бронзы; взрыв продукции в среднем бронзовом веке с максимальным морфологическим разнообразием репертуара и массовым изготовлением престижных изделий из золота. На Балканах за знакомством с металлом в позднем неолите следует настоящий бум его производства в энеолите с высочайшими количественными и качественными показателями. В эпоху ранней бронзы кардинальные изменения общекультурной ситуации сопровождаются кризисом мсталлопроизводства, затем оно постепенно нарастает, но остается несопоставимым с анатолийским ни по масштабам, ни по морфологии изделий, ни по применению драгоценных металлов.
Чем можно объяснить эти различия? Сейчас мы не можем дать однозначного ответа на этот вопрос, однако хотелось бы указать направление поиска. Несомненно, анатолийское металлопроизводство сформировалось на месте и связано с генеральной моделью развития ближневосточного общества - от деревенских поселений к ранговому обществу с раннегородскими центрами и государственными образованиями. Именно такой путь развития характерен для зоны Южной, Восточной и Юго-Восточной Анатолии, бывшей частью сиро-месопотамской цивилизации. Раннегородская и раннегосударственная фазы ее развития отмечены существованием элиты - организатора производства и обмена, потребителя престижных вещей.
На Северные Балканы и в Подунавье знания о металле проникают с Ближнего Востока вместе с достижениями производящей экономики. Благоприятные природные условия региона были связаны с отсутствием засух и ландшафтным разнообразием, не было необходимости ирригации и связанного с ней централизованного контроля над потреблением продуктов и организацией сельскохозяйственных работ. В этих условиях не было и базы для формирования иерархической общественной структуры: в блестящих материалах Балкано-Дунайских энеолитических культур мы не найдем ни одного из признаков раннегородской, тем более государственной, модели развития. Такая ситуация вела к консервации деревенской общины. Местная элита - организатор поиска и производства металла - функционирует в рамках вождества.