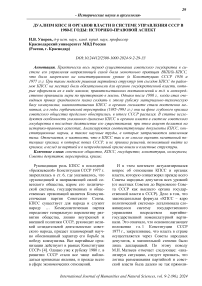Дуализм КПСС и органов власти в системе управления СССР в 1980-е годы: историко-правовой аспект
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 9-2 (96), 2024 года.
Бесплатный доступ
Практически весь период существования советского государства в системе его управления направляющей силой была монопольно правящая ВКП(б)-КПСС, что было закреплено на конституционном уровне (в Конституциях СССР 1936 и 1977 гг.). При таком подходе решения партийных структур (от съездов КПСС до райкомов КПСС на местах) были обязательными для органов государственной власти, которые оформляли их в виде законов, правительственных постановлений и т.д. и непосредственно принимали меры по претворению в жизнь. Однако после 1980 г., когда стал очевидным провал грандиозного плана создать к этому рубежу материально-техническую базу коммунизма, взаимоотношения КПСС и органов госвласти стали постепенно меняться, а в годы горбачевской перестройки (1985-1991 гг.) они на фоне глубокого кризиса советского общества предельно обострились, в итоге СССР распался. В статье исследуются особенности указанного дуализма КПСС и органов власти в системе советского государства в последнее десятилетие его существования, при этом акцент делается на историко-правовых аспектах. Анализируются соответствующие документы КПСС, конституционные нормы, а также научные труды, в которых затрагивается заявленная тема. Отмечается, в частности, что в КПСС так и не смогли оценить негативный потенциал кризиса, в которых попал СССР, и не приняла решений, позволявший выйти из кризиса, а вслед за партией и в непреодолимый кризис вошли и властные структуры.
Советское общество, кпсс, государство, конституция, коммунизм, советы депутатов, перестройка, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/170207525
IDR: 170207525 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-9-2-29-33
Текст научной статьи Дуализм КПСС и органов власти в системе управления СССР в 1980-е годы: историко-правовой аспект
Руководящая роль КПСС в последней «брежневской» Конституции СССР 1977 г. закреплялась в ст. 6, где указывалось, что «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу … Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР» [4]. Однако уже к рубежу 1980 г. в развитии СССР стали все чаще наблюдаться кризисные явления, и прежде всего в сфере экономических отношений.
И в этом контексте актуализировался вопрос об отношения КПСС и органах власти, которую олицетворял прежде всего Советы народных депутатов всех уровней (от местных Советов до Верховного Совета СССР как высшего органа государственной власти в СССР). Дело в том, что законодательная формула «КПСС – ядро политической системы» легализовала сложившуюся систему государственного управления посредством партийногосударственной номенклатурной вертикали. Это означало, что основополагающее положение гл. 1 Конституции СССР 1977 г., закреплявшее, что власть в стране осуществляется через Советы народных депутатов, в значительной степени было лишь декларацией. По этому поводу М.Н. Матвеев отмечает следующее: «анализируя ситуацию, следует признать, что логика размежевания партийной и советской власти была далеко не так прямоли- нейна, как это могло показаться на первый взгляд. Учитывая то, что именно партия начала сверху в лице ее генерального секретаря перестройку в стране, где десятилетия существовала государственная власть КПСС и жили десятки миллионов коммунистов, определенный период сохранения контроля за ситуацией со стороны партийных органов был логичен. Однако при этом и историческая ответственность за последствия грандиозного социальнополитического эксперимента в полной мере ложилась на КПСС и ее лидера М. Горбачева» [5, с. 28].
В этой же связи А.Ф. Хутин подчеркивает, что проблема разграничения функций партии и Советов существовала с самого начала, «партийные комитеты и их аппарат не управляют и не могут непосредственно управлять государственными делами. Да от них этого и не требуется, поскольку для указанных целей имеется специальный аппарат» [10, с. 114]. Однако этот автор не учитывает одного обстоятельства, а именно то, что у КПСС в силу обстоятельств, при которых в 1917 г. было образовано государство, была реальная, фактическая власть, а Советы, будучи формальной властью, «претворяли волю партии в жизнь». И при однопартийной системе иного быть просто не могло, поэтому с неизбежностью возникал вопрос о введении многопартийности, основанной на политической конкуренции. Однако такая постановка вопроса в практической плоскости, вплоть до рубежа 1990 г., считалась «крамольной», недопустимой при обсуждении в открытой печати.
А «правильный» путь определялся прежде всего на партийных форумах (съездах и пленумах). Так, апрельский (1984 г.) Пленум ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов» призывал к тому, чтобы Советы «взыскательно и объективно оценивали деятельность должностных лиц и хозяйственных руководителей всех уровней» [6, с. 13], повторяя уже в который раз этот тезис, из-за чего он стал уже давно дежурной фразой. Пленум как само собой разумеющееся требовал улучшения руководства Советами со стороны партийных органи- заций. Более того, даже после провозглашения «перестройки» в 1986 г. было принято Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании партийного руководства Советами народных депутатов» [8], что свидетельствовало, на наш взгляд, во-первых, о неспособности правящей советской элиты преодолеть «партийный синдром», И, во-вторых, о ее нежелании поступаться властью.
Ряд авторов того времени предлагали пути преодоления дуализма КПСС и Советов, исходя, однако, из сохранения однопартийной системы. Как отмечалось в литературе второй половины 1980-х гг., в «устранении объективных причин смешения функций существенную роль призвано сыграть улучшение нормативно-правового регулирования деятельности КПСС, ее органов и организаций. Прежде всего встает вопрос о правовом статусе КПСС, который в основных чертах определен ст. 6 Конституции СССР. В последнее время высказаны предложения о том, чтобы исключить указанную статью из Конституции и тем самым устранить законодательное закрепление руководящей роли КПСС. Они отражают позицию тех, кто, выступая за введение политического плюрализма и многопартийности, старается оттеснить КПСС от политической жизни» [2, с. 8].
Но в руководстве КПСС в том же 1989 г. на этот счет была совершенно четкая установка. Ее суть была выражена в выступлении Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на совещании в ЦК КПСС 18 июля 1989 г., где он, в частности, отметил: «попытки противопоставить партию Советам неприемлемы так же, как несостоятельны теоретически и политически ошибочны предложения об огосударствлении партии, о подчинении партии государству» [7, с. ]. Сторонник такой позиции С.Э. Жилинский писал, что «подобные теоретические посылки и практические устремления свидетельствуют, с одной стороны, о непонимании или сознательном искажении роли КПСС как политического авангарда советского общества, с другой - о попытках под видом возрождения полновластия Советов привить последним чуждые им антидемократизм и этатизм. Их реализация означала бы шаг назад в конституционном строительстве, современном политическом процессе» [2, с. 10].
Аналогичные рассуждения имели место в ряде других работ и других авторов того времени [1; 3 и др.]. При этом, как правило, делались ссылки на классиков марксизма-ленинизма. В частности, указывалось на то, что К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин вскрыли и обосновали объективную закономерность, суть которой в, том, что без руководства Коммунистической партии невозможны ни, социалистическая революция, ни дальнейшее строительство нового общества. Эта закономерность лежит также в основе взаимоотношений партии и государства. «И сегодня партия, - отмечал М.С. Горбачев в докладе на Съезде народных депутатов СССР, -выступив инициатором и главной движущей силой перестройки, является гарантом этого революционного процесса, защиты его от поползновений и консервативных, и ультралевацких элементов. Именно она способна выполнять роль интегрирующей силы, без которой не может быть доведено до успешного завершения дело обновления социализма» [9]. Игнорирование действия названной объективной закономерности означало, по мнению С.Э. Жилинского, отказ от коммунистических идеалов, а в перспективе чревато угрозой, потери социалистических завоеваний [2, с. 11].
Указанный автор, как видно, ставил вопрос о самой значимости, масштабе данной проблемы. Однако путь выхода из кризиса, который предлагался, вряд ли мог быть приемлемым. Указывалось, в частности, что «руководство КПСС не есть умаление значения государства и его органов, равно как и других организаций политической системы. Взяв на себя ответственность за допущенные в прошлом ошибки, партия, в частности, решительно осудила порядок, когда ее организации подменяли советские органы, выполняли функции прямого управления различными сферами общества. В частности, решено прекратить издание на местах совместных постановлений партийных и советских органов.
КПСС всемерно способствует развертыванию самостоятельности и активности самих государственных и общественных институтов. Для партии ныне главное - выражать и гармонизировать интересы основных социальных групп, слоев населения, всего народа, обеспечивать консолидацию в деятельности всех звеньев политической системы общества» [9]. Ошибочность такой позиции, на наш взгляд, была в том, что она предусматривала сохранение как однопартийности, а также конституционное закрепление партии как «руководящей и направляющей» политической силы в советском обществе. И более того, в предлагаемых способах совершенствования правового статуса КПСС (создать новый закон о партии) предлагалось упрочить авторитет КПСС.
При этом регулирование статуса партии не должно было касаться внутрипартийной жизни. В это связи указывалось следующее: «задачи, формы и методы работы партии определяются ею самой, ее Программой и Уставом. Вместе с тем закон, отразив социальное назначение КПСС, ее функции в политической системе и обществе, основные принципы политического руководства, укрепил бы лидирующую роль партии, создал надежные юридические гарантии для правильных взаимоотношений КПСС с другими организациями политической системы» [2, с. 11-12].
Однако предлагаемый закон о партии, как известно, не был разработан, поскольку последующие события были настолько стремительными, что буквально через год-два, после распада СССР, предложения такого рода были преданы забвению ввиду предельного обострения общего кризиса СССР как самостоятельного целостного государства, и на этот счет имеется немало публикаций, в том числе в последние годы [11; 12; 13; 14 и др.] Представляется очевидным, что разграничение функций советских и партийных органов не могло базироваться на одной статье Конституции СССР и небольшом количестве разрозненных правовых норм других актов. Практическое отсутствие правового регулирования взаимоотношений советских и партийных органов создало почву для произ- вольного подхода к решению этого вопроса как в центре, так и на местах. Это во многом стало одной из причин невыполнения крупных социальных программ (продовольственной, жилищной, здравоохранения, производства товаров народного потребления, экологической), снижения темпов экономического развития, а также почвой для развития «теневой экономики», которая не могла существовать без покровительства коррумпированных чиновников. Очевидно, это понимали и советские партийные лидеры во главе с М.С. Горбачевым, но видимо, согласиться с многопартийностью они не могли по принципиальным соображениям, и в итоге КПСС в существовавшем тогда виде, как известно, прекратила свое существования вместе с распадом СССР в 1991 г.
Список литературы Дуализм КПСС и органов власти в системе управления СССР в 1980-е годы: историко-правовой аспект
- Демочкин Н.Н. Власть народа: Формирование, состав и деятельность Советов в условиях развитого социализма. - М.: Мысль, 1978.
- Жилинский С.Э. Разграничение функций партийных и государственных органов // Правоведение. - 1989. - № 6. - С. 7-12.
- Еськов Г.С. Укрепление политической основы Советского государства. Период построения социализма. - М.: Мысль, 1983.
- Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) // Ведомости ВС СССР. 1977. N 41. Ст. 617.
- Матвеев М.Н. Демократизация местных Советов Поволжья в период 1985-1991 гг. // Вестник Самарского государственного университета. - 2003. - № 1(27). - С. 27-34.
- Материалы апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении работы Советов народных депутатов». - М.: Политиздат, 1984. - С. 6.
- Перестройка работы партии - важнейшая ключевая задача дня. - М.,1989.
- Постановление ЦК КПСС от 06.03.1986 г. «О дальнейшем совершенствовании партийного руководства Советами народных депутатов». - М.: Известия, 1986.
- Правда. 1989. 31 мая.
- Хутин А.Ф. Местные Советы народных депутатов: особенности и противоречия их развития в 70-80-е годы: дис....д-ра ист. наук. - М., 1992.
- Литичевский Б.В. Деятельность политических партий России в Конституционном Совещании в период государственного кризиса 1992-1993 гг. // Наука. Общество. Оборона. - 2024. - Т. 12, № 3 (40). - С. 28-28.
- Казьмин В. Н. Правовая и политическая реформы и изменения в Конституциях СССР и РСФСР периода перестройки (1985 - начало 1990-х гг.) // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. - 2023. -Т. 7. № 1. - С. 80-86.
- Лобанов Д.И. Бюрократизм и борьба с ним в годы перестройки на страницах газеты «Кировская правда» // Современные исследования социальных проблем. - 2023. - Т. 15, № 2. - С. 28-43.
- Буянова Л.В., Маслова Е.Н., Токмаков В.С. Изменения в политической системе ссср и переход к новому порядку выборов в органы государственной власти в 1985-1991 гг. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2024. - № 4. - С. 45-51.