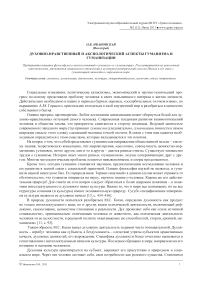Духовно-нравственный и аксиологический аспекты гуманизма и гуманизации
Автор: Ивановская Ольга Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2011 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка философского анализа понятий «гуманизм» и «гуманизация». Рассматривается их ценностная наполненность, уточняются национально-этнический и культурно-исторический смыслы Идеала и его связь с гуманизацией личности в современном мире.
Гуманизм, гуманизация, духовность, культура, гипериндивидуализм, ценность, идеал, патриотизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14821649
IDR: 14821649
Текст научной статьи Духовно-нравственный и аксиологический аспекты гуманизма и гуманизации
Социальные изменения, политические катаклизмы, экономический и научно-технический прогресс по-новому представили проблему человека в свете повышенного интереса к жизни личности. Действительно необходимо и важно в периоды бурных перемен, «оскорбительных толчков извне», по выражению А.М. Горького, пристальнее вглядеться в свой внутренний мир и разобраться в ценностях собственного бытия.
Однако прогресс противоречив. Любое достижение цивилизации может обернуться бедой для духовно-нравственных потенций самого человека. Современная тенденция развития взаимоотношений человека и общества такова, что приоритеты сдвигаются в сторону индивида. Ведущей ценностью современного западного мира стал принцип гуманизма (следовательно, гуманизации личности в самом широким смысле этого слова), сделавший человека точкой отсчета. В связи с этим нам кажется необходимым определиться с теми смыслами, которые вкладываются в эти понятия.
На вопрос о том, что собой представляет гуманизм как направление общественной мысли – систему знания, теоретическую концепцию, тип мировоззрения, идеологию, совокупность ценностно-нормативных установок, нечто другое, или и то и другое – даются разные ответы. Существует множество трудов о гуманизме. История знает много разных «гуманизмов», подчас соперничающих друг с другом. Многие методологические проблемы остаются невыясненными, и споры продолжаются.
Кроме того, сегодня гуманизм становится научным, предполагающим исследование человека и его развитие в тесной связи с социальной практикой. Однако философия наукой не является, и гуманизм наукой никогда не был. Его природа иная. Термин «научный» в данном случае может отражать то обстоятельство, что гуманизм опирается на науку, научное знание о человеке. Какова же его действительная природа? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к более широким понятиям – к понятиям интеллектуального и духовного начал культуры. Важно то, что в мире все познаваемо, но не все структуры сознания (и культуры) имеют познавательную природу. Сугубо специфическим измерением культуры является ее духовное начало [13, c. 454–456].
В природе духовности попытался разобраться М.С. Каган, определив духовность как продукт не только интеллектуального вида, но и других видов психической деятельности, включающей рефлексию, самосознание, ценностное отношение к реальности. Дух проявляет себя как «сила истинной социальности», принципиально отличающая человека от животного, как психическая деятельность человека «в ее целостности, в реальной полноте охватываемых ею способностей, сторон, уровней, механизмов» [11, c. 93].
Таким образом, М.С. Каган вывел духовную деятельность за рамки чисто познавательной. Духовность – атрибут человека как субъекта, а бездуховность – следствие утраты субъектом нравственных качеств, духовных ценностей, его вырождение. Специфика духовности более отчетливо выявляется в сопоставлении с интеллектуальным началом культуры. Последнее обращено к миру, направлено на его познание и освоение человеком.
Духовная культура ориентируется на субъект, выражает его присутствие в природном и социальном мире. Через нее человек осознает себя, свои потребности как родового существа. Становится очевидным, что по своей природе гуманизм является не формой познания, не формой общественного сознания, не продуктом интеллектуального развития человечества, а проявлением духовности, ее исходным пунктом, сердцевиной. Человек – это высший продукт развития природы и общества, притягивающий к себе все нити бытия и познания, и высшая ценность. Так, академик И.Т. Фролов полагал, что гуманистическое начало должно присутствовать во всей жизни человека и общества. Для него человек будущего – это не просто Homo sapiens, a Homo sapiens et humanus – человек разумный и гуманный. Новый гуманизм ученый идентифицирует с «нравственной философией жизни». Это идеал, к которому следует стремиться [13, c. 457–459].
История человеческой культуры свидетельствует о том, что противопоставление интеллектуальной и духовной деятельности порождает в обществе негативные тенденции, грозит людям разными бедами. Лишенный всякой духовности разум безразличен к добру и злу, у него элиминировано нравственное чувство, он беспощаден и страшен. Важны единство, взаимная связь интеллекта и духа, истины и ценности, науки и гуманизма.
Однако, на наш взгляд, принцип гуманизма (если гуманизм понимать так: «Гуманизм уравнивает всех людей, независимо от их положения, происхождения, пола, возраста, национальности, вероисповедания, поскольку он является сводом правил, всеобщим общеобязательным, общезначимым принципом, которым должны руководствоваться все люди» [4, c. 17]) унифицирует, «атомизирует» человека, поэтому может служить лишь субстратом, «питательной средой», необходимым условием для дальнейшего становления личности. Это не самоцель, а тот «прожиточный минимум», в котором должна состояться личность как уникальная инаковость, неповторимость, индивидуальность и в то же время – часть значимого целого. Идея гуманизма, понятого в вышеуказанном смысле, скорее разъединяет людей в их стремлении выделиться из массы, обостряет конкурентную борьбу каждого человека за «себя особенного», отличающегося от тотальной унифицированности. И само равенство людей – скорее иллюзия, поскольку уже от рождения все люди разные, и в этом многообразии – прелесть жизни.
Слово «гуманизирующий» должно означать «социализирующий», возвращающий индивиду статус личности, значимой в социальной среде, в отношении к таким же личностям и индивидуальностям, т.е. в отношении с Другим. Следует отметить, что для современной философии характерна проблема-тизация феномена Другого как на онтологическом, так и на социокультурном уровне. Другой – это не Я, тот, кто противостоит мне, находится по ту сторону меня, моих ценностей, моего мировоззрения. И вместе с тем Другой – такой же, как Я: он мыслит, чувствует, ходит и т. д. У. Эко говорит, что этика возникает именно там, где появляется согласование во взаимодействии людей: «Этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой» [35, c. 9].
В роли Другого может пониматься и весь социум. В случае, если человек противопоставляет себя ему, игнорируя общественно принятую и закрепленную механизмом традиции норму, он вместе с нормой начинает игнорировать и человеческую культуру. А это чревато возвращением к доисторическому хаосу и полной деградацией самого человека. Следовательно, человек должен всегда соизмерять свои стремления, желания, возможности с интересами других, а значит, всего общества. Только так достигаются гармония и равновесие социального и индивидуального.
Именно через других реализуется механизм идентичности . Однако, и открытость по отношению к Другому сегодня оказывается ловушкой для индивида, поскольку последний катастрофически утрачивает представление о подлинности своего внутреннего мира, о специфически человеческом. Распад известных традиционных социальных структур, привычных форм общественной жизни, стремительное изменение окружающей обстановки, вызывающие «футурошок», находят отражение в массовопсихологических процессах. Другими словами, человек утрачивает представление о самом себе.
В современном мире происходит распад идентичности. Постмодернисты обозначают этот процесс как кризис идентификации (термин Дж. Уарда). Они показывают, что сегодня индивид не располагает теми условиями, которые обеспечивали бы ему возможность адекватного и целостного восприятия са- мого себя. Самотождественность личности разрушилась, при этом понятие «кризис идентификации» описывает также состояние современной культуры.
Сегодня индивида, пытающегося выстроить коммуникацию, ждет разочарование. Там, где он рассчитывал отыскать некое человеческое содержание, оказывается пустота. Субъекта нет, есть только социальные роли. Социальное замещает индивидуальное. Там, где человек рассчитывал обрести подтверждение самотождественности, он наталкивается на безличные социальные позиции. Идентификация подменяется процессом позиционирования, безличное тиражируется и даже клонируется, как подметил Ж. Бодрийяр. Противостояние индивида и социума рождает не глубинный поиск тождественности, а «коллаж идентификаций» (М. Лери). На социальном поле вместо личности обнаруживается всего лишь пустое имя, «О». В этом смысле справедлива мысль о том, что душ сегодня меньше, чем людей [8, c. 101].
Субъект отныне сам расщепляется на Я и Другого. Выстраивается линия «Я – Другой – Иной – Чужой». В этом спектре человек вынужден расстаться с процессом глубинного постижения себя через Другого. Отныне он занят иной работой: надо не столько соотнестись с Другим, сколько обозначить дистанцию, которая выразит близость или чуждость окружающих людей. Рождается не взаимообогащение личностей, а механическое сопоставление разных социальных точек в дискурсе социальных систем. Встреча с Другим предполагает теперь возможность поглотить своим Я Другого или позволить Другому поглотить меня. Такой захват индивида, описанный через лексику каннибалисти-ческого поглощения в психоанализе З. Фрейда, связан с процессом замещения другого человека, или полным ускользанием субъекта.
Действительный процесс идентификации предполагает не удвоение преднайденного, не отражение его и даже не расщепление на образ и подобие [5, c. 164–166]. Идентификация как процесс постоянного местонахождения себя предстает как способ существования на пределе самого себя, самовыпи-сывания, письмо самого себя, по выражению Ж.-Л. Нанси.
В постмодернистской философии тема смерти человека получила разработку в таких понятиях, как «смерть автора», «исчезновение субъекта». «В свете всех этих новаций традиционная концепция человеческой субъективности, богатства и неисчерпаемости Я оказывается неприемлемой. Быть личностью, самостью, Я становится непристойным» [16, c. 229]. Однако в истории философии предумышленное отвержение той или иной темы нередко парадоксальным образом стимулировало более обостренное понимание самой проблемы. Именно поэтому постмодернистский дискурс, декларируя «смерть человека», объективно содействовал расширению спектра антропологической рефлексии, актуализировав проблему антроподицеи и гуманизма.
В гуманистических подходах был сделан решительный шаг к холистическому пониманию человеческой природы. Человек – это открытая возможность. Природа человека фрагментарна. Он не завершен и не может быть завершен [5, c. 159]. Отсюда, согласно К. Ясперсу, неустанное стремление человека к единому, каковым он не является: «Фрагментарность требует достижения полноты, источник которой, в противоположность всем остальным универсальным источникам “человеческого”, должен обеспечить бытию человека основу и целостность» [36, c. 908].
Ф. Ницше, раскрывая негативность человеческой природы в книге «Так говорил Заратустра», показал, как малодушие и лицемерие отказываются превозмогать свою недостаточность. Однако философ предполагал не только осуждение человека и его природы. В человеке, в человеческом духе, по мнению Ницше, нетрудно обнаружить натуру верблюда, покорного и несамостоятельного вьючного животного. Однако в человеческом естестве обозначен и лев. Это олицетворение способности человека к преображению. Стало быть, Ницше толкует не только о порочности человека, но и о его поиске иного самоопределения. Человек стремится к воссозданию своей целостности. Он способен восстановить в своих правах силу собственных духа и разума. Напутствие Ницше выглядит так: «Но любовью и надеждой заклинаю тебя: храни героя в душе своей! Свято храни свою высшую надежду» [25, c. 38].
Таким образом, гуманизм в широком смысле – исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности желаемой нормой отношений между людьми [30, c. 139]. В узком смысле гуманизм – течение общественной мысли, возникшее в эпоху Возрождения в европейской культуре вместе с осознанием того, что человек как подобие Бога способен к индивидуальному творчеству, что, созидая новое, он утверждает себя. Гуманизм утверждает целостность и ценность человеческой жизни и личности, возможность существования человека в гармонии с природой и другими людьми.
Слово «гуманист» появилось в конце XV в. (термин «гуманизм» в научный оборот был введен немецким педагогом Ф. Нитхаммером позднее – в 1808 г.) и стало обозначать зарождение нового человека, нового мировоззрения, проникнутого критицизмом и светсткостью. Центральная идея гуманизма – актуализация возможностей индивида, всесторонняя культивация его достоинства.
Нам представляется необходимым подчеркнуть важность осторожного, внимательного и чуткого обращения с теми смыслами, которыми оперирует сегодня общественная мысль. В связи с этим позволим себе несколько замечаний. Прежде всего нужно различать два, казалось бы, схожих, но на самом деле имеющих совершенно разное смысловое значение понятия – «достоинство» и «гордыня». Достоинство понимается как осознание себя созданным по образу и подобию Божию, что возлагает на человека большую ответственность перед миром, в котором он – «венец природы», а значит, открывает путь к его самосовершенствованию. Гордыня означает стремление человека быть самостоятельным, самодостаточным, когда «он сам может быть Богом»; главная цель в этом случае – удовлетворение чувства собственного превосходства над другими людьми, природой и даже Богом. Происходит бунт против авторитетов, стремление не подавлять свои инстинкты, сексуальные и агрессивные побуждения, а всячески потворствовать им. Получай удовольствие за счет других, здесь и сейчас – именно этот принцип провозгласил Э. Шандор Ла Вэй в 1968 г. в своей «Сатанинской Библии». Зло – идеальная мудрость, жизнь – это насилие, каждый сам себе Бог. Месть, а не подставление для удара другой щеки, пресыщение – в противоположность воздержанию – вот главные мотивы современного сатанизма как предельного эгоцентризма.
Отметим, что сатанизм можно понимать в узком, религиозном, смысле как один из современных деструктивных культов, разрушающий человеческую личность, но обретающий все большую популярность в молодежных кругах именно за счет своей вседозволенности. В широком, философском, понимании сатанизм – это предельный эгоцентризм, являющийся прямым продолжением и следствием гипериндивидуализма как абсолютизирования роли человека в его отношениях с обществом, когда в центре внимания находится именно индивид, а не класс или социальная общность [2, c. 412]. Следовательно, говоря о необходимости культивации достоинства личности, надо избегать опасных «перекосов» смысловых полей и тщательно заботиться о верной расстановке акцентов.
В культурно-историческом плане гуманизм как ведущий вектор общественных настроений и результат смещения ценностных приоритетов, произошедший в эпоху Возрождения, был не чем иным, как возвращением к антропоцентризму великого античного мыслителя Сократа, считавшего, что весь мир создан богами для и во имя человека. Спустя тысячелетие европейского Средневековья Человек снова оказался в центре внимания философии. Другими словами, наблюдается возврат к античной идее, но это кажущийся возврат, теперь человек занял место Бога. Провозглашается гуманизм как система ценностей, определить которые можно в результате рассмотрения данной эпохи в сравнении со Средневековьем, главной философской идеей которого был теоцентризм. Смысл жизни средневекового человека заключался в жизни вечной (достижении рая после смерти). А значит, вся реальная жизнь воспринималась как подготовка к будущей вечности и сама по себе ценности не имела. Важно было успеть пройти путь обожения, т.е. приблизиться к Богу в своих моральных качествах, подчинить свою плоть Духу, а из этого вытекают аскетический образ жизни и преобладание внутренних мотивов для самоактуализации.
В эпоху Возрождения Человек рассматривается как высшая цель и ценность, а значит, утвердилась и новая система ценностей: жизнь ради самой жизни – жизнь как самоценность, смысл которой – любовь, удовольствие и наслаждение (возвращение античного гедонизма), творчество и активность вместо средневековой созерцательности. Однако в эту эпоху антропоцентризм и гуманизм оказались тесно связаны с индивидуализмом, получившим бурное развитие в европейском сознании в связи со сменой социально-экономического уклада и переходом к капитализму. Мы уже упоминали то, что Бога потеснили и человек занял его место. Важно подчеркнуть, что вплоть до наступления эпохи Возрождения человек мыслил коллективными категориями «Мы (свои)» и «Они (чужие)». Человек не мог выжить в одиночестве. Более того, этот древнейший вектор человеческого сознания, заставляющий нас все, с чем мы соприкасаемся, неосознанно разделять на «наше» и «не наше», актуален до сих пор. Кстати, исторический момент, когда Я выкристаллизовалось из Мы, люди переживали как великую трагедию.
С наступлением европейского Ренессанса, человек противопоставил себя окружающему его миру. Появилось личностно-материальное понимание реальности. В этом процессе не последнюю роль сыграла Реформация (идея Мартина Лютера о возможности спасения личной верой). По сути, была отвергнута одна из ведущих идей христианской церкви – идея соборности, коллективизма, представление человека о себе как неотделимой части целого, принадлежность к которому могла гарантировать спасение.
Как ни парадоксально, именно великая идея Сократа, превратно истолкованная, позволила человеку однажды заявить: «Я и есть Бог!». А это уже сатанизм в широком, философском понимании этого слова . Во-первых, сатанист использует весь мир как средство для достижения своих целей, а еще И. Кант призывал относиться к людям всегда как к цели и никогда – как к средству. Во-вторых, выступая против коллективного чувства «мы», сатанист разрушает основания социума, превращая человека из существа социального и культурного в существо исключительно природное – в «работающего зверя», как назвал человека в начале XIX в. С. Къеркегор. Но ведь именно культурная составляющая делает человека Человеком и Личностью. В этом плане культура всегда надприродна, она подавляет «звериное начало» в человеке и в процессе интериоризации заставляет индивида поступать согласно социально одобряемой норме, а не животному инстинкту (на всякое «хочу» общество накладывает свое «табу»). Вся история человеческого общества как история психокультуры, согласно В.А. Данченко, есть путь человека к собственному Я, процесс выделения индивидуальности из Мы [7, c. 22–23].
Каждая общественно-экономическая формация порождает такие проблемы в области воспроизводства человека, которые для предшествующих культур не существовали или решались автоматически. Так, эллинам пришлось заниматься проблемой формирования когнитивного блока психики («разума»), христианскому средневековью, помимо этого, – проблемами формирования волевого, мотивоорганизующего начала («духа»), а буржуа решали проблемы формирования самосознания, самоидентификации («Я»).
Однако именно этот процесс выделения Я из Мы, начавшись в ХVI в., привел современную евро-американскую цивилизацию в нравственный тупик, породив крайний эгоцентризм со свойственной ему, согласно А. Камю, «энергетикой разрушающего отмщения». Такой эгоцентризм, усиливая социально-культурную энтропию, ведет современное общество к распаду и хаосу.
Стремление к связи с Другим экзистенциально. Однако западная цивилизация в исторической ретроспективе остановилась на полпути: индивидуальное сознание не просто выделилось из коллективного сознания, но и отделилось, противопоставив себя Мы. Возможно, это необходимый этап взросления человечества на пути поиска новых оснований для переобъединения. В противном случае этот гибельный путь «индивидуализированного общества» с его целерациональностью ведет в никуда.
Философия издревле пыталась найти пути сочетания интересов личности и общества, создать системы социальной защищенности человека и условий для его свободного развития, иными словами, уклад жизни, при котором человек на деле выступает «мерой всех вещей». Однако и фривольное толкование известного высказывания Протагора не столь безобидно, как кажется на первый взгляд. Ведь главный смысл, который античный философ вложил во фразу «Человек есть мера всех вещей», не столько гуманистический, сколько субъективистский: ничего общего и обязательного для всех нет, никаких единых принципов или законов не существует, каждый из нас сам устанавливает правила и ориентиры, по которым должна протекать его жизнь. Любое воззрение настолько же истинно, насколько ложно. Все можно и доказать и опровергнуть, противоположные суждения совершенно равносильны. Таким образом, из субъективизма софистов, к которым и относился Протагор, вытекает релятивизм – положение об относительности всего сущего и мыслимого [6, c. 81]. А от релятивизма остается один шаг до вседозволенности.
Так что же понимать под гуманизмом и гуманизацией человека? Ориентация на ценности, а не на потребности, на стремления, а не на влечения рассматривается гуманистической философией как отличительный признак зрелой личности [30, c. 140]. При этом под стремлениями понимается нацеленность человека на достижение идеала , который и служит системой координат для личной самоактуализации. Именно наличие идеалов (а не идолов и кумиров, этих суррогатных заменителей идеалов для массового потребителя жизни) позволяет правильно оценивать жизнь на любом ее этапе, не жалеть о проделанном пути и ощущать радость существования [26, c. 725]. Здесь уместно вспомнить слова видного русского философа И.А. Ильина о том, что человек нуждается не в истинах, которые служат ему, а в истине, которой мог бы служить он сам [10, c. 137]. Следовательно, гуманизм есть постоянный поиск смыслов и путей самореализации личности [23, c. 3].
В сегодняшнем обществе формированию идеалов, направляющих и воодушевляющих человека, помогающих ему подняться над прозой и мелочами жизни, мешают прежде всего несформированность смысла бытия общества в целом, отсутствие единой общественной идеи. Прежняя идеология рухнула, похоронив под собой идеалы целого поколения, а новое общество, не предложив достойной замены, отодвинуло на второй план общечеловеческие ценности.
Отсутствие стимула к глубокому самопознанию и саморазвитию приводит к их замене напористостью и агрессивностью в достижении цели. В ситуации безусловного преобладания материальных ценностей и ориентиров на «Иметь!» человек одухотворенный, с ориентацией на другой модус человеческого существования – «Быть!» (творческая, активная, самореализующаяся Личность, заинтересованная миром, преодолевшая рамки собственного изолированного Я) – теряется, не может найти свое место в социальной системе, чувствуя себя ненужным и неинтересным. Происходит крушение идеалов индивида, разбившихся о непреодолимую стену общественных «ценностей».
«Возвышайся над собой, но не теряй себя из виду!» – вот что должно стать девизом тех, кто хочет воплотить в жизнь свои идеалы и реализовать смысл жизни [26, c. 727]. Сегодня идеалы гуманизма сильно увяли на фоне разгула бесчеловечности. То, что в XX в. получило название массовой культуры, отчетливо ориентируется на Homo simplissimus, руководствующегося принципом максимизации удовольствия при минимизации усилий [18, c. 82].
Массовая культура создает и поддерживает культ низших функций, затрагивая простейшие непосредственные механизмы реагирования. Культура же в традиционном, «высоком» смысле апеллирует в первую очередь к высшим функциям и связана с развитием более сложных, опосредствованных механизмов. В ситуации свободной конкуренции две альтернативных культуры, которые можно назвать культурой расслабления и культурой усилия, находятся в неравном положении. Массовая культура, культура расслабления, хорошо экономически и социально самовоспроизводится, благодаря тому, что это происходит автоматически. Культура усилия в гораздо меньшей степени обладает такими возможностями, и поэтому требует государственной и общественной поддержки. Только немногие из современных цивилизаций сохранили сейчас эффективно работающие механизмы воспроизводства куль- туры усилия. В этом отношении в сравнительно более благоприятном состоянии, возможно, находится китайская культура. Западная же цивилизация, к которой сейчас правомерно относить и нашу страну, испытывает большие трудности перед натиском культуры расслабления. Итогом в данном случае становится отсутствие поддержки движения человека в направлении развития на основе сознательных и произвольных усилий, и наоборот, поддержка «естественного» движения человека в направлении расслабления и деградации.
Рассмотрение человека, зажатого между жесткими данностями биологического и социального, с одной стороны, и безграничными возможностями культуры и жизненного мира – с другой, приводит к осознанию эволюционного выбора, который стоит перед каждым в данной точке его жизни и эволюции человечества. Человечность, таким образом, предлагается рассматривать не как заданную, а как формирующуюся через индивидуальные усилия, что порождает как количественные различия в мере человечности, так и качественные различия основ бытия людей.
Возможности, раскрывающиеся перед человеком в современном мире, беспрецедентны, причем это относится как к возможностям развиваться, трансцендировать данности, совершенствовать свои силы и возможности, так и к возможностям отказа от развития, позволяющим адаптироваться к одной из множества ниш на основе симбиотического слияния с социальной организацией, которой делегируется ответственность за собственное благополучие. Выбор в данном случае выступает важнейшим личностным тестом, с помощью которого мы сами определяем нашу роль в мире: в поте лица реализовывать свое человеческое предназначение, участвуя в поступательной эволюции человеческой культуры и цивилизации, или паразитировать на них, довольствовавшись легкими путями и поддавшись искушению субчеловеческим [18, c. 82–84].
Таким образом, становление человека – это самостановление, активный процесс, связанный не столько с вызреванием чего-то заложенного, сколько с работой над чем-то в мире, что имеет смысл. Нет условий, которые автоматически порождали бы в нас человеческое. Для того чтобы быть человеком и развиваться, необходимо то, что можно было бы назвать «экзистенциальным тонусом» . Это понятие соответствует понятию усилия, о котором говорил М.К. Мамардашвили [20].
Есть причины, порождающие зло, но нет причин, порождающих добро. Только наше личное усилие порождает добро. Как только мы ослабляем это усилие, добро перестает существовать. Свободу, мысль Мамардашвили также относил к тем феноменам, которые порождаются только человеческим, личностным усилием. В этом и заключается основная человеческая трудность, вызов, который бросает нам наша жизнь: быть человеком – значит не расслабляться.
Биологическая природа человека служит основой для надстройки новой социальной природы, которая в свою очередь выступает предпосылкой индивидуальной, антропологической надстройки. Появление личности, т.е. человека в философско-антропологическом смысле, как в фило-, так и в онтогенезе – это выход индивидуальной регуляции за рамки социальной, возможность противостоять обществу. Личность развивается путем дифференциации, обособления индивида от социальной общности [17, c. 11–21].
Д.А. Леонтьев спрашивает: мы знаем, что человек есть мера всех вещей, но возможна ли мера человеческого? Чтобы быть человеком, необходимо, но еще не достаточно родиться homo sapiens’ом – это позволяет стать человеком лишь в биологическом смысле слова. Приобретая человеческий опыт и формируясь под воздействием окружающей нас социокультурной реальности, мы обретаем человечность социальную; чтобы полностью стать человеком и в персонологическом смысле, нужна работа над собой, строительство, собирание себя. Необходимо вкладывать себя в это. «Мы никогда не являемся людьми абстрактно, а являемся людьми так, как умеем быть людьми» [20, c. 502]. Психолог А. Джорджи в унисон с этим констатирует, что единственная, главная, универсальная характеристика человеческой природы – это способность человека к трансценденции, что связано с его интенциональностью, т.е. направленностью на что-то вне себя [37]. Правильное определение человека было бы не homo sapiens, a homo transcendens – человек превосходящий, выходящий за пределы. В этом и заклю- чается сущность человека. Человек есть человек в той мере, в которой он выходит за пределы самого себя и преобразует то, что ему дано [18, c. 71]. Э. Фромм в свою очередь отмечал: природа человека характеризуется тем, что у него нет определенно зафиксированной природы [32].
Человек в своей жизни неизбежно сталкивается с дихотомиями, заложенными в самой сути его существования. Это противоречия между жизнью и смертью, желаниями и возможностями и т.д. Стремление разрешить данные конфликты приводит в движение все человечество. Каждый человек свободен решить эти дихотомии по-своему. Он должен принять ответственность за самого себя и признать, что только собственными усилиями он может придать смысл своей жизни. Если он разберется в сути своего реального положения, дихотомиях, присущих его существованию, он осознает собственную способность раскрывать все личные силы, преуспеет в решении задачи: быть самим собой для себя самого и достичь счастья, в полной мере реализовав свои сугубо человеческие качества: разум, любовь и продуктивный труд [33, c. 154]. Следовательно, человек – это не то, что он есть, а то, чем он может стать. Ибо только преодолевая самого себя, подавляя низкие желания и порывы, обогащая свой духовный мир, человек становится по-настоящему свободным и получает право называться Человеком в полном, высшем смысле этого слова.
Переживание человеком мира и себя в этом мире можно рассматривать как главную психологическую реальность. При этом сам мир понимается феноменологически – как действительность, данная субъекту в его опыте, преломленная через призму смыслов и ценностей субъекта. Уникальность каждого человека выводится не из индивидуальных различий наследственности и условий среды, но прежде всего из уникальности жизненных целей и смыслов, реализуемых человеком. Человек – активное, интенциональное, творческое существо, свободное в выборе своего отношения к внешним обстоятельствам, способное трансцендировать условия своего существования и даже себя самого.
Приверженность какой-либо цели, идее, Идеалу или сверхъестественной силе (например, Богу) есть выражение потребности осуществления полноты существования. Следовательно, полнота и смысл жизни человека заключаются в служении выбранному Идеалу.
Зрелый, продуктивный, рациональный человек будет стремиться к выбору такой системы, которая позволит ему быть зрелым, продуктивным и рациональным. Человек, задержавшийся в своем развитии, вынужден вернуться к примитивным и иррациональным системам, еще более усиливающим его зависимость и иррациональность. Э. Фромм утверждает, что нет иного, более сильного источника человеческой энергии, чем эти системы. Человек не свободен в выборе – иметь или не иметь «идеалы», но он свободен в выборе между идеалами: поклоняться разрушительным силам или разуму и любви.
Что же такое Идеал и как он соотносится с системой ценностей?
Мир человека – всегда мир ценностей, он наполнен смыслом и значениями. Ценностное отношение в свою очередь возможно только там, где реально присутствует человек, являющийся носителем и субъектом ценностного отношения. Сами по себе вещи и события в их безотносительности к человеку, жизни социума, не существуют в категориях ценностей.
Как можно философски определить понятие «ценность»? Ценность – факт культуры, она социальна по своей сути. Это функциональный и при этом непременно объективно-субъективный феномен. Ценность – это не сам предмет или явление, а отношение человека к предмету и явлению. По определению американского социолога Т. Парсонса, ценность в общем смысле употребления этого термина означает желательность, предпочтительность или пригодность чего-либо, имеющего отношение к человеку.
Общим стержнем для культурных ценностей является понятие нравственности. Без него любые виды ценностей потеряли бы всякий (кроме грубого потребительского) смысл. Нравственный императив придает ценностным ощущениям стимул к деятельному выражению и обеспечивает их духовной энергией, без которой не было бы самой культуры.
В работах отечественного исследователя Л.В. Баевой ценность понимается как смыслозначимая цель существования, оказывающая трансформирующее влияние на актуальное бытие. Ценности мо- гут быть определены как субъективный поиск преодоления ограничений природно-социальной программы, обретение источника, усиливающего, умножающего, преодолевающего, совершенствующего индивидуальное бытие, выводящего последнее на новый уровень качества. Ценности могут быть квалифицированы как доминанты сознания и экзистенции, направленной на достижение совершенного бытия, креативно влияющей на внутреннее развитие личности и окружающий мир через наполнение их значимостью и смыслами. Соединяя человека и мир узами значимости, ценности преобразуют обе стороны этого отношения в направлении должного [1, c. 19]. Ценность наполняется значимостью в сознании и оказывает трансформирующее влияние на актуальное бытие, изменяя физическую природу человека: ослабляя эгоцентризм, потребность в мести, неограниченном удовлетворении сексуального влечения, желание власти. По мнению З. Фрейда, это имеет негативные последствия, и вытесненные инстинктивные стремления ведут к потере психического здоровья и время от времени вызывают взрывы насилия и агрессии [31, c. 94]. Однако тот же Фрейд считал, что единственный способ преобразования инстинктивной энергии, не ведущий к психическим заболеваниям, – сублимация, т.е. одухотворение, выражающееся в творчестве. Оно в свою очередь приносит человеку большее удовлетворение, чем следование своему инстинкту [27, c. 99].
Личность как уникальное сочетание присущих ей способностей даже в стремлении к объективному идеалу остается неповторимой. Мир сознания, переживания, чувствования бесконечен, поэтому бесконечно многообразны оценки самого мира. Оценивая что-либо, каждый субъект обнаруживает в этом свою индивидуальность и сущность. В связи с этим роль ценностей оказывается креативной, строящей структуру личности с учетом субъективных предпочтений и свободного выбора пути саморазвития [1, c. 22].
Важнейшей категорией в системе ценностных ориентаций личности является идеал. Известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн обратил особое внимание на то, что в идеале осуществляется «предвосхищенное воплощение» того, чем может стать человек. В идеале осмысленно синтезируются личностью ведущие ценности прошлых поколений, ее оценка настоящего и представления о будущем. Следовательно, проектная и ценностно-ориентационная деятельность человека в рамках духовной культуры связаны именно понятием идеала. Поскольку идеал есть представление о совершенном образе, о желаемом, то он теснейшим образом связан с целями, которые ставит человек перед собой. С одной стороны, идеал является тем ориентиром, который определяет направленность целей. В этом смысле он представляет собой проекцию настоящего в будущее. С другой стороны, идеал как в той или иной степени сформированное личностью понятие совершенного выступает в качестве критерия для оценки существующей действительности. И в данном случае он – проекция будущего на настоящее. Таким образом, идеал выполняет две функции: прогностическую, целевую (создает более или менее постоянную интенсивную систему нравственных устремлений – ценностных ориентиров) и оценочную (является нравственным критерием поступков человека в различных жизненных ситуациях). Следовательно, существенен не предметно-вещный, а предметно-человеческий аспект любого действия, не абстрактные свойства предмета как «вещи-в-себе», а отношение человека к предмету, т.е. личная составляющая человеческой активности [28, c. 489].
Особенностью идеалов является их бóльшая индивидуализированность по сравнению с другими формами ценностей. Нравственные нормы, принципы личности представляют собой в той или иной степени усвоенные ею извне, уже сформированные в культуре требования морали. Это происходит в процессе социализации, когда ценности присваиваются в готовом виде. Идеалы же (особенно идеалы-цели) личность всегда формулирует сама, опираясь, конечно, на ценностные системы общества.
Важной особенностью идеала, по мнению М.С. Кагана, является то, что эта высшая по степени обобщенности ценность предопределяет выбор практически всех других ценностей личности, превращаясь тем самым в ее внутренний стержень. «Идеал есть не что иное, как род проекта, воплощающий представление о совершенстве человека и совершенной организации жизни человечества (потому само понятие “идеал” имеет поэтический эмоциональный ореол, в отличие от прозаически звучащих терминов “проект” и “модель”). Поэтому идеал в отличие от ценностно нейтрального проекта, является носителем наивысшей ценности, тем самым направляя человеческое поведение в нравственной, эстетической, политической, религиозной сферах и служа критерием оценки реальности в каждой из этих сфер. Такими возможностями идеал обладает потому, что в отличие от идеи – при всей близости этих понятий – идеал является не абстрактным, обобщенным формулированием определенной ценности (блага, добра, справедливости и т.п.), а конкретным представлением о “потребном будущем”, образом этого желаемого будущего. Вот почему, вопреки распространенному убеждению, что теоретическое обоснование идеалов осуществляет идеология, поскольку она решает эту задачу по отношению ко всему миру ценностей, следует заключить, что теория идеала есть идеалогия, а не идеология – теория идей» [12, c. 251].
Мы рассмотрели идеал в личностном аспекте, однако есть и второй смысл идеала как цементирующего, объединяющего социум феномена. Процветающими общество и культура могут считаться, если достигается совпадение, единство личного и общего для всего народа идеала. Такое общество непобедимо и имеет надежное будущее.
Человек – сложная информационно-энергетическая система, в которой этика играет определяющую, жизненно важную роль. Обретение целостности человеческого сознания возможно только в процессе постоянного диалога человека с миром и культурой. Внутренний процесс, отражаясь в социальном функционировании личности, выступает как внешний. Однако может оказаться и так, что человек обретет общекультурную компетенцию во всех указанных сферах и аспектах, но в своем эмоциональном, личностном потенциале останется чуждым по отношению ко всем этим нагромождениям образцов.
Осмелимся утверждать, что пока человек видит источник жизненных интересов и цель своего существования в себе самом, пока мало ориентирован на гражданские ценности и идеалы, он бесполезен для общества, потерян как творец, гражданин, ибо у него нет направленности на творчество, и он не решает задач за пределами Я. Следовательно, в своем нравственно-аксиологическом взрослении каждый человек переживает два этапа соотнесения себя с признаваемыми им ценностями [14, c. 47]. На первом этапе ему представляется, что ценность есть нечто, чем он может оперировать, нечто принадлежащее ему. На этом этапе понятие ценности утилитарно и приближено к понятию полезности. Затем оказывается, что подлинная глубина ценности открывается лишь в ответ на радикальную перемену ролей. Человек начинает ощущать себя служащим своей ценности, Идеалу. Самого себя он осознает как место вхождения этого Идеала в наш мир. В данный момент человек осознает свою способность к творчеству, меняет свое восприятие истины и ценности: его труд теперь призван менять не столько мир (согласно проектам самого человека), сколько его самого, согласно представлению о «мере всех вещей».
Как только я меняю свой взгляд на мир, признавая его одухотворенность, гармонию, самодостаточность, я начинаю ощущать свою заброшенность, отстраненность, непричастность, изолированность от этой прекрасной, совершенной, таинственной гармонии, я начинаю желать слиться с этим миром, стать его частицей, понять его – я открываюсь для изменений. Но в основе такой метаморфозы – вера в эту инаковость мира. Поверил – открылся для усвоения нового, для контакта с миром. Это стремление к миру заставляет человека делать усилия над собой. Я начинаю замечать то, что не значимо при ином, утилитарно-прагматическом отношении к действительности. Я воспринимаю мир как «собеседника», а значит, мой внутренний мир начинает зависеть от этого «диалога», который в свою очередь осуществляется через веру – только то, во что я верю, влияет на мое Я.
Известный французский мыслитель Г. Лебон в работе «Психология народов и масс», выделив в истории человеческой цивилизации три этапа – Язычество (каждый человек волен верить во что угодно), Нация (появляется единый, консолидирующий общество идеал) и Неоязычество (у общества вновь нет объединяющего народ идеала), весьма определенно обозначил главную гуманистическую проблему нашего времени – проблему бездуховности современного общества, ценностного вакуума и отсутствия консолидирующего социум идеала [15, c. 309]. Поэтому все чаще наши дни характеризуются философами как «антикультура» с присущей ей «нулевой нравственностью».
В связи с этим важно подчеркнуть две вещи: во-первых, на первый план выходит необходимость немедленного поиска объединяющей народ Национальной Идеи, того самого цементирующего идеала, во-вторых , этот общественный идеал должен быть интериоризирован каждым индивидом. Важно, чтобы он совпал с тем внутренним стержнем, вокруг которого человек выстраивает себя как личность и которому служит до конца.
Что же может объединить современных людей с присущими им столь разнонаправленными ценностными векторами? Мы склонны считать, что это наша многострадальная история и великая российская культура, а значит, единое для всех нас чувство патриотизма. Это чувство сегодня подверглось серьезным испытаниям.
Русский религиозный философ И.А. Ильин выдвинул весьма жесткий критерий идеала: идеал – это то, за что человек способен безоговорочно отдать свою жизнь [10, c. 142]. Однако на вопрос «За что Вы готовы безоговорочно отдать свою жизнь?» современные молодые люди, даже не задумываясь, отвечают: «Ни за что!». Это симптом ценностного и мировоззренческого вакуума. Неужели россияне утратили великое чувство коллективизма, когда «один – за всех, и все – за одного»? Думается, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Предпринятое З.В. Сикевич исследование ментальности разных народов, в процессе которого проводился сравнительный анализ наиболее выраженных черт национального характера у представителей нескольких этносов [29, c. 121], убедительно показало, что чувство патриотизма имеет национальные особенности. Так, если у американца из десяти наиболее ярко выраженных признаков национального характера, выстроенных в порядке их убывания, патриотизм стоит на первом месте, что позволяет определить его как «воинствующий», то у русского этот признак находится на восьмом месте, что может свидетельствовать не столько об его слабой выраженности, сколько о его специфичности – это «экстремальный» патриотизм. И действительно, американский образ жизни как некий образец навязывается всему миру, причем американцы убеждены, что несут другим народам благо и цивилизованность – точно так же, как римляне когда-то считали, что порабощая варваров, они облагораживают их жизнь и мир. Русский национальный характер отличается толерантностью, иными словами, наш патриотизм не выпячивается, а «дремлет» до того момента, пока не возникнет серьезная угроза Отечеству, т.е. носит «оборонительный» характер. Те же молодые люди, которые, казалось бы, не готовы пожертвовать своей жизнью, попадая в экстремальные обстоятельства, не жалеют себя, защищая интересы и жизнь своих сограждан.
Российская Национальная Идея должна основываться на чувстве патриотизма и великом долготерпении, толерантности титульного, нациеобразующего этноса. Ибо без этих национальных качеств существование полиэтнической российской цивилизации было бы невозможно .
Известный отечественный философ Б.С. Гершунский так характеризует современную социокультурную ситуацию: «Непредсказуемое поведение российского социума в ХХ веке – прямой результат насилия над его ментальностью, того преступного многолетнего социально-генетического экспериментирования, которое сугубо революционным путем бесцеремонно вмешивалось в тонкие и чувствительные механизмы социальной памяти, деформировало процесс социального наследования, рвало в клочья связь времен и преемственность поколений» [3, c. 201].
И действительно, развенчав и опорочив все предыдущие ценности и идеалы, мы не предложили юному поколению новых. Образовался ценностный вакуум, абсолютный плюрализм альтернативных, очень разных, пестрых, порой взаимоисключающих идеалов. Сложилась ситуация ненаправля-емой свободы выбора того стержня, вокруг которого человек выстраивает себя как личность.
От принципа тотального коллективизма и обезличенности маятник социальных отношений качнулся сегодня в сторону предельного эгоцентризма и девальвации социально-культурных ценностей. Важно, избегая таких крайних позиций, вернуть их в серединное положение, в гармоничное равно- весие: при всей значимости личностных ценностей и ценности личности, не забывать, что человеческое в человеке представлено социальной и культурной составляющими. Следовательно, гуманизация – это реанимация и актуализация социально-культурной составляющей личности, включение человека в процесс интериоризации общественно значимой нормы, а не целенаправленное удовлетворение все возрастающих утилитарно-гедонистических потребностей; не только и не столько социализация, сколько инкультурация как облагораживание человеческой природы через приобщение к национально-культурным ценностям – традициям, религии, вере. В каком-то смысле гуманизация – это самоотчуждение человека в интересах общества и культуры.
Цель гуманизма и гуманизации – воспитание толерантного этнофора, способного воспринимать и оценивать мир сквозь призму своей национальной культуры и в то же время готового к равноправному и конструктивному диалогу культурных инаковостей. Забвение своих цивилизационных основ, отрыв от корней, «безродность» и есть утрата духовного стержня культуры. Без прошлого нет будущего, без фундамента нет самого здания. Чтобы преодолеть болезнь духа, необходимо выработать в человеке духовно-нравственный иммунитет, позволяющий ему быть невосприимчивым ко злу, сформировать способность делать осознанный выбор в пользу добра и стремление строить свою жизнь согласно нравственным ценностям и нормам.
Список литературы Духовно-нравственный и аксиологический аспекты гуманизма и гуманизации
- Баева Л.В. Экзистенциальные основания религиозности//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Серия «Социально-экономические науки и искусство». 2006. №2(15). С. 18-23.
- Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 1999.
- Гершунский Б.С. Философия образования. М.: Моск. психол.-соц. ин-т, Флинта, 1998.
- Горячев А.П., Кучеренко Л.В. Статус категориальности философского понятия «гуманизм»//Мировоззрение. Философия. Общество: сб. науч. ст. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2009. Вып. 13. С. 14-20.
- Гуревич П.С. Актуальные тенденции в понимании человеческой природы//Человек -наука -гуманизм: к 80-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова/отв. ред. А.А. Гусейнов; Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2009. С. 152-173.
- Гусев Д.А., Манекин Р.В., Рябов П.В. История философии. М.: Филол. об-во «СЛОВО»; Изд-во Эксмо, 2004.
- Данченко В.А. Проблемы психической культуры и межкультурные контакты//Филос. науки. 1990. №10. С. 22-32.
- Зинченко В.П. Образование, культура, сознание//Философия образования для ХХI века: сб. ст./под ред. Н.Н. Пахомова и Ю.Б. Тупталова. М.: Логос, 1992.
- Ивановская О.В. Социально-философские проблемы гуманизации личности//Вестн. РУДН. Серия «Философия». 2010. №1. С. 5-13.
- Ильин И.А. Путь духовного обновления//Путь к очевидности. М.: Республика, 1993.
- Каган М.С. О духовном (Опыт категориального анализа)//Вопр. философии. 1985. №9. С. 91-02.
- Каган М.С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996.
- Келле В.Ж. Гуманизм как проявление духовности//Человек -наука -гуманизм: к 80-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова/отв. ред. А.А. Гусейнов; Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2009. С. 452-60.
- Кураев А. О вере и знании -без антиномий//Вопр. философии. 1992. №7. С. 45-3.
- Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Макет, 1995.
- Лекторский В.А. Умер ли человек?//Наука, общество, человек: к 75-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова/отв. ред. В.С. Степин; Рос. акад. наук, Ин-т человека. М.: Наука, 2004. С. 229-35.
- Леонтьев Д.А. Личность: человек в мире и мир в человеке//Вопр. психологии. 1989. №3. С. 11-1.
- Леонтьев Д.А. Человечность как проблема//Человек -наука -гуманизм: к 80-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова/отв. ред. А.А. Гусейнов; Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2009. С. 69-5.
- Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990.
- Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995.
- Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация. Тексты и беседы. М.: Логос, 2004. С. 9-5.
- Мамардашвили М.К. Философия и личность//Человек. 1994. №5. С. 5-9.
- Никонов К.М. Теоретико-методологические основания западной педагогической антропологии//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Серия «Социально-экономические науки и искусство». 2006. № 2(15). С. 3-.
- Никонов К.М., Ивановская О.В. К вопросу о гуманизации личности: культурно-исторический, аксиологический и национально-этнический аспекты//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2010. №1(11). С. 27-3.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого/пер. В.В. Рынкевича; под ред. И.В. Розовой. М.: Интербук, 1990.
- Понизовкина И.Ф. Проблема утраты смысложизненных ориентиров и ее преодоление (Размышляя над реалиями сегодняшнего дня)//Человек -наука -гуманизм: к 80-летию со дня рождения академика И.Т. Фролова/отв. ред. А.А. Гусейнов; Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2009. С. 724-730.
- Райгородский Д.Я. Теории личности в западно-европейской и американской психологии. Хрестоматия по психологии личности. Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 1996.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1999.
- Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999.
- Философский энциклопедический словарь/редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев [и др.]. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989.
- Фрейд З. Будущее одной иллюзии//Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990.
- Фромм Э. Душа человека/пер. с англ. М.: Республика, 1992.
- Фромм Э. Человек для самого себя//Психоанализ и этика. М.: Республика,1993.
- Фромм Э., Хирау Р. Предисловие к антологии «Природа человека»//Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: Прогресс, 1990. С. 146-168.
- Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 1998.
- Ясперс К. Общая психопатология/пер. Л.О. Акопян. М.: Практика, 1997.
- Giorgi A. Whither Humanistic Psychology?//The Humanistic Psychologist. 1992.Vol. 20. № 2-3. P. 422-438.