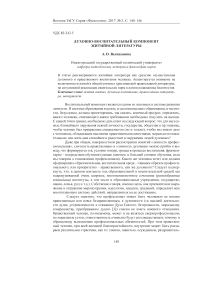Духовно-воспитательный компонент житийной литературы
Автор: Велижанина Анна Олеговна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается житийная литература как средство осуществления духовного и нравственного воспитания человека. Акцентируется внимание на включенности житий в общий контекст христианской православной литературы, на ситуативной реализации евангельских норм в жизни подвижника благочестия.
Жития святых, духовное воспитание, православная литература, интертекст
Короткий адрес: https://sciup.org/146122064
IDR: 146122064 | УДК: 82-343.5
Текст научной статьи Духовно-воспитательный компонент житийной литературы
Воспитательный компонент является одним из основных в системе развития личности. И система образования в целом, и система высшего образования, в частности, безусловно, должна проектировать, так сказать, конечный продукт, определять, какого человека, отвечающего каким требованиям необходимо получить на выходе. С нашей точки зрения, необходимо дать ответ на следующий вопрос: что для нас (семьи, ближайшего окружения некоей личности, государства, общества и пр.) важнее, чтобы человек был прекрасным специалистом (но и только); чтобы мы имели дело с человеком, обладающим высокими нравственными качествами, морально положительным; или жить нам спокойнее и радостнее в окружении людей духовных?
Даже при общем, поверхностном рассмотрении понятий «личность профессиональная», «личность нравственная» и «личность духовная» можно прийти к выводу, что формируется эта, условно говоря, триада в процессе воспитания, фрагментарно – посредством обучения (однако заметим: в большей степени обучения, если мы говорим о становлении профессионала). Какого же человека хочет или должна сформировать образовательная, воспитательная среда – главным образом профессионального, или приоритетно – нравственного, или же духовного? Следует подчеркнуть, что, в данном контексте под образовательной и воспитательной средой мы подразумеваемой очень широкое, многокомпонентное сочетание (разнообразные социальные институты, в том числе и образовательные учреждения, государство, нация, семья, род и т.д.). Собственно говоря, именно цель, как прагматичное выражение и отражение мировоззрения, идеологии, идеалов, традиций, определяет всю многоплановую систему действий, направленных на ее достижение.
Следует заметить, что профессионал может быть человеком не вполне нравственным или вовсе безнравственным, к духовности («к высшей деятельности души, устремленности к стяжанию Духа Святого, безгрешности, моральному совершенству, преображению души» [3]) совсем не иметь никакого отношения. Нравственный человек, по-видимому, может и не являться сверхпрофессионалом, но моральные устои, ответственность очевидно будут споспешествовать точному и образцовому выполнению профессиональных обязанностей. При этом нравственный человек, при всей внешней благопристойности, внутренне может быть раздираем различными страстями, как то: гневом, завистью, осуждением, раздражитель- ностью и проч. Духовность же, будучи высшим уровнем развития и саморегуляции зрелого человека, когда основными ориентирами его жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности, смеем утверждать, обусловливает гармоничное целокупное развитие личности во всех её ипостасях.
Русское образование, благодаря его лучшим представителям, выработало четкие целевые ориентиры для любого субъекта воспитательного процесса. Так, К. Д. Ушинский писал: «Служи идее христианства, идее истины и добра, идее цивилизации, идее государства и народа, хотя бы это стоило тебе величайших усилий и пожертвований, хотя бы это навлекло на тебя несчастье, бедность и позор, хотя бы это стоило тебе самой жизни» [9, с. 255]. Вариативность и нацеленность на новые педагогические технологии и эксперименты, иллюзорность и зачастую безосновательные требования поиска нового должны быть жестко ограничены главным. Вообще определение образцов, идеалов, стремление к которым выражается в целеполагании, – фундамент воспитательного процесса, бесконечные корректировки, ротации, новации в котором делают шатким все образовательные институты, да и общество в целом. В свое время В. В. Зеньковский предупреждал: «Общие цели, к которым стремится направить детскую душу педагог, не могут и не должны быть им «придуманы», не могут быть делом его вдохновения или произвола… Необходимо опираться на объективную сферу, на те ценности, которые возвышаются над личностью и придают ей значительность» [6, с. 11]. Причем довольно длительно и продуманно формировавшийся и внушавшийся стереотип о некоей интеллектуальной ущербности духовного, религиозного человека, что объяснялось и до сих пор доказывается смещением ценностных приоритетов, опровергает классик русской педагогики: «Влияние духовных способностей человека или влияние духа человеческого на рассудочный процесс огромно и необыкновенно важно» [10, с. 511].
Становление системы ценностей, ориентиров, не изменяющихся в течение всей жизни, понимание гармоничной иерархичности окружающего мира осуществлялось и непротиворечиво, последовательно осуществляется не в последнюю очередь благодаря чтению духовной литературы. Весь книжный религиозный комплекс, при несомненном его жанровом, композиционном и пр. многообразии, всё-таки соответствует только одному основному принципу, одному объективному закону. «… вся православная литература – богословская, проповедническая, даже художественная и т. д. – должна в разных жанровых авторских вариантах стержнево доносить, практически и в соответствии с историко-временными реалиями разъяснять и прояснять евангельскую мысль. Можно построить даже некоторую интерпретационную цепочку: Евангелие – Апостол и Ветхий Завет – Постановления святых Вселенских соборов и Правила святых апостолов – святоотеческая литература. Можно утверждать, что в этом отражается очень важный познавательный принцип – от Закона до его практического применения, – который необходимо учитывать, в том числе, при систематизации и изложении содержания любой учебной дисциплины» [1, с. 50].
Одним из самых распространенных и, можно утверждать, популярных и активно читаемых жанров духовной литературы являются жития святых подвижников. Издания подобного рода читаются и перечитываются с детства и в течение всей жизни. Подвижническая жизнь, удивительная высота поступков ориентируют на горние, высшие ценности, обусловливают подчинение или возникновение желания подчинять бытовое, сиюминутное, земное – вечному, духовному. Стремление исправлять себя, бороться с собственными осознаваемыми пороками, недостатками, страстями, как правило, сталкивается с проблемой ситуативного, часто – мгновенного принятия решений, с проблемой поступочного выбора. Житийная литература в этом смысле является надежным ориентиром, поскольку демонстрирует, как общежизненная цель руководит каждым поступком, а при совершении ошибки, духовном спотыкании позволяет рефлексивно отнестись к произошедшему и продолжить духовное восхождение.
Жития святых, как «церковно-религиозный жанр, посвященный жизнеописанию святых, их духовной биографии, которая пишется после смерти подвижника, утверждается церковью после канонизации, т. е. официального признания Церковью святости почившего», удовлетворяют желание узнать, а как, собственно, живут, взрослеют и даже умирают духовно стойкие люди; некоторых из них, но уже канонизированных, ещё помнят современники, при молитвенном обращении к этим когда-то жившим рядом людям исполняется просимое. Житийная литература, включающая в себя сведения о происхождении святого, о его рождении и воспитании, о деяниях и чудесах, о праведной кончине, а также сравнение с другими подвижниками, безусловно, может являться образцом и в некотором смысле сценарием собственной жизни, надёжным примером для подражания. Однако человек, погружающийся в чтение жизнеописания того или иного подвижника благочестия, определенно чувствует и осознает, что эта литература «отражает прежде всего не собственно биографию, а динамику спасения - того пути в Царство Небесное, который проложен данным святым» [8, с. 73].
Житийная литература чрезвычайно объемна по количеству представленных элементов, а с точки зрения речевого оформления очень разнообразна, что обусловливается временем, историческим контекстом, авторством и т.д. конкретного житийного произведения. Однако любое житие не может стержнево отклоняться от главного – от духовной биографии святых, от информации о том, как они, работая Христу, стяжали дух святой и стали, как, например святые Петр и Феврония, преподобными , то есть «очень подобными» Христу. Также важно, с нашей точки зрения, проследить, как евангельская мысль проецируется в житии, как проявляет себя этот глубочайший и однодневно не постигаемый интертекст (Библия – в целом и Новый Завет – в частности) в написанном незатейливым языком, как кажется, и в простом по изложению тексте жития.
В формате нашей работы мы рассмотрим в указанных аспектах «Житие преподобных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев».
Жизнеописание преподобных начинается со слов о том, что правил некогда в городе Муроме «благоверный князь по имени Павел». Быть благоверным – это означает исповедовать истинную веру, быть православным, подтверждая это каждым своим поступком. Собственно, никаких других характеристик правящего князя житие не содержит, но понятие «благоверность» самодостаточно: читающий понимает, что народ мурома, прежде активно язычествующий, живет по христианским канонам, управляемый православным князем, благоверным. Уже это начало и является завязкой последующих событий, поскольку благоверующий человек предупрежден: «Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению» (Сир.2:1). Искушения, духовно-нравственные испытания закаляют душу не только искушаемого, но и тех, кто его окружает. Такое испытание было попущено князю: «Дьявол же … сделал так, что злой крылатый змей стал летать к жене того князя на блуд» [5, с. 5].
Аллюзивно это соединяется со многими фактами ветхозаветной, например, истории, когда дьявол руками своих адептов совершает превращения, является в иных образах (так, египетские чародеи повторяли творимые Богом через Моисея чудеса). Довольно много случаев явления темной силы описано и в новозаветных житиях, именно поэтому Господь через своих учеников предупреждает всех своих последователей: «Бдите и молитесь, да не внидете в напасть» (Мк. XIV, 38). Люди высокой духовной жизни, будущие святые обретали способность не только видеть мир иной, но и подчинять злобных духов. Например, в житии архиепископа Иоанна Новгородского сказано, что святой рассказал о некоем человеке, который был искушаем бесом, но подчинил его себе и съездил на нем в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню. Считается, что рассказывал святитель о себе самом, но прикровенно, чтобы не вызвать похвалы и восхищения.
Итак, змей прилетает к супруге князя на блуд, вынуждая насильственно нарушать заповедь «не прелюбодействуй». Однако становится известно, что искуситель может быть уничтожен, погибнет «от Петрова плеча и от Агрикова меча». Петр, младший брат князя, понимает, что вызов должен принять именно он, поскольку «болши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя (Ин.15:13). Самоотверженность, смелость, обусловленные любовью к ближнему и к Господу, – качества, которыми обладают многие герои житийной литературы – подражатели святым апостолам и самому Христу. Для того, чтобы проявить эти качества, то есть проявить готовность к подвигу, как свидетельствует житие, нужно обладать духовной стойкостью. Так, о Петре сказано, что у него было обычаем «ходить в одиночестве по церквам». Значит, будущий святой Петр уже познал сладость молитвы и общения с Богом наедине, он обладал определенной духовной опытностью, поэтому, именно во время молитвы в храме, не был смущен предложением некоего явившегося отрока показать, где в храме спрятан Агриков меч – орудие возмездия. Ничуть не удивила князя эта цепь случайностей, совпадений – меч был обретен именно в том храме, куда был приведен Промыслом Божиим князь на молитву, поскольку в случайность верит не верящий в Бога человек.
В житии сказано «и вот явился ему отрок», не подошел, но явился – ангельское явление. Эта житийная деталь апеллирует к знанию о связи святых ангелов с людьми, об их чудесных явлениях. Например, два ангела вывели семью Лота из Содома (Быт.19:1), с помощью ангела была завоевана земля Обетованная Иисусом Навином (Нав. 5:13-14), ангел спас трех отроков от огня (Дан.3:23), ангел посоветовал Корнилию обратиться за наставлением к апостолу Петру (Деян. 10:3-7). Уже в наше время афонскому монаху Герасиму Менагию, который суровой зимой сбился с пути, явился десятилетний мальчик и «вывел монаха к дороге, ведущей к Лавре, и вдруг исчез. Когда Герасим оглянулся, ища своего попутчика, то на дороге, по которой они шли вместе, увидел в снегу только свои следы, будто и не шел с ним рядом мальчик. И тогда он понял, что это был Ангел Господень» [11].
Главный герой рассматриваемого жития в сражении поражает змея, который, однако, обрызгал Петра своей кровью, отчего тело покрылось болезненными струпьями. В житии ничего не говорится о том, что Петр стал унывать или роптать: совершив богоугодное дело, человек ожидает некой награды, а не нового, довольно тяжелого испытания. Гораздо большие страдания вытерпел библейский Иов, многие века являющийся образцом не только терпения, но и благодарности Богу, возносимой и в скорбных ситуациях, его слова «наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял <…> да будет имя Господне благословенно» (Иов 1: 21) отражают вневременную, вечную связь событий и героев Ветхого и Нового Заветов, достоверно иллюстрируют, как осуществить Христов завет: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17:10).
При этом житийный Петр, будучи человеком, возрастающим в православной традиции, конечно же, не свят; его духовные победы и поражения утверждают читателя в мысли о том, что Господу все возможно, что святость далеко не всегда предопределена с младенчества, что евангельский путь спасения – траектория общечеловеческого назначения. В житии сказано, что Феврония, к которой пришел княжеский слуга, надеясь, что та исцелит Петра, в простых словах озвучила евангельскую норму на все времена: «Если будет он (князь) чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!» Чистое сердце, смирение – высочайшие духовные смыслы. Христос заповедал: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).
Причина беспокойства, недовольства, претензий – в отсутствии смирения (по словам одного из современных подвижников, смирение – это способность видеть истину), причина нездоровья в общем – тоже в отсутствии смирения, во всепроникающем самолюбии и самомнении, в нечистом сердце. В глубоком покаянии пророк Давид взывал ко Господу: «Сердце чисто созижди во мне, Боже…» Велики евангельские обетования по отношению к чистосердечным людям («блаженны чистые сердцем, они Бога узрят (Мф. 5. 8)»). Так что простолюдинка, неграмотная Феврония простым условием определила не только для житийного Петра, но и для всех читателей норму, достигнув которой человек обретет блаженство в вечной жизни, поскольку, по словам Исаака Сирина, «сердце раздраженное не вмещает в себе тайн Божиих; а кроткий и смиренномудрый есть источник тайн нового века… вот если будешь чист, то внутри тебя небо…» [7, с. 74].
По-видимому, все уже описанные события, и встреча с Февронией, и последующие житийные фрагменты свидетельствуют о том, что человеку, открытому Богу, не противящемуся духовным основам, все способствует спасению – и неприятности, и болезни, и искушения, но и встречи с людьми, и чудеса и пр. Именно для духовного возрастания Петра и произошла встреча с удивительной, не по возрасту умудренной Февронией.
Из житий можно узнать о том, что о будущей святости некоторых подвижников невозможно было предполагать до определенного времени. Так, вряд ли можно было распознать великую святую преподобную Марию Египетскую в юной блуднице, да и о разбойнике, распятом по правую руку Христа невозможно было подумать, что он по обетованию войдет в Царствие Небесное следом за Спасителем. Но у некоторых святых особый путь может быть предопределен с младенчества, когда Господь подает знаки об избранничестве. Таков, например, преподобный Сергий Радонежский, который, ещё находясь в материнском лоне, подал троекратно возглас в особо значимых местах Литургии; или преподобный Серафим Саровский, не вкушавший (кстати так же, как и преподобный Сергий) по средам и пятницам материнского молока, будучи постником от рождения.
По-видимому, к таким святым можно отнести и преподобную Февронию. Какие же свойства, если можно так сказать, характерные для поведения подвижников, стяжавших благодать Божию, присущи житийной Февронии.
-
1. Иносказательность речи, мыслей, аллегоричность которых воспринимает далеко не каждый слушающий, позволяет угадать в Февронии русскую блаженную, её поведение во многом напоминает поступочность, например, Дивеевских блаженных, или Ксении Петербургской, или Матроны Московской, которая одному страждущему, неходячему инвалиду предложила доползти до её дома, после чего он уже был исцелен. Может быть, это странное и, на обывательский взгляд, жесткое условие позволило этому человеку смириться, что, как уже было сказано, необходи-
- мо для выздоровления. Во время свадьбы Петра и Февронии «народ стал смеяться, что, де, князь дурочку взял за себя» [4, с. 34]. Но на Руси блаженный и дурачок – это почти всегда одно и то же.
-
2. Особое дарование исцелять, которым она наделена издетска. Она исцелила князя хлебной закваской, на которую дунула. Но и Господь «…плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому» (Ин. 9:6). Причем, исцеленный по молитвам Февронии Петр не сдержал обещания жениться на ней, то есть поступил лукаво, и болезнь к нему опять вернулась. Так через Февронию князь Петр в покаянии исцелялся и духовно.
-
3. Мудрость, рассудительность, способность вразумлять как признак особого духовного дара. Все испытания, предложенные ей князем, она проходила, удивительным образом оборачивая их в испытания для самого Петра, именно поэтому в житии неоднократно говорится, что Петр «дивился», «подивился» мудрости девы. Как умно и продуманно поступила Феврония, когда выполнила требование бояр покинуть княжеский дом, но покинуть вместе с мужем. Это стало испытанием и для бояр, и для их жен, явилось необходимой для них наукой подчиняться.
-
4. Чудеса, совершаемые по молитвам святой: хлебные крошки, не выброшенные, а аккуратно собранные в горсточку, обращаются в благоухающий ладан; на месте срубленных вечером кустов вырастают на следующий день высокие деревья; обращенная к Петру просьба не умирать, пока Феврония не закончит вышивать «воздух во святую церковь», была выполнена в точности, как мы понимаем, в первую очередь, по молитвам святой.
-
5. И, самое главное, – абсолютная покорность воле Божией. Думается, при таких духовных дарованиях жизненный путь Февронии должен быть, скорее всего, монашеским. Вспомним: она не тяготилась своим девичьим одиночеством, её слушаются зайчишки (а Серафима Саровского и Сергия Радонежского – медведи, Герасима Иорданского – лев). Смеем предположить, что Февроньино условие, поставленное князю, супружество за исцеление, не было выполнением её собственной воли, поскольку этим браком к святости был приведен и князь Петр. Точно так же другая муромская святая, Иуалиния Лазаревская, смиренно отказавшись от вожделенного иночества, привела к глубокой вере своего супруга.
Чтение житийной литературы погружает в общедуховный православный контекст, позволяет произвести рефлексивную самоидентификацию, при этом соединить в сознании частное с общим, объективным, дает возможность непротиворечиво объединить вневременное, вечное с современным, краткосрочным. Акцентирование читательского внимания на духовной православной литературе, в частности на житийных изданиях, принципиально важно для воспитания человека, человека духовного, а также нравственного и при этом профессионально развитого, поскольку, по словам М. И. Демкова, позволяет познать «…высший Закон жизни, в котором тело должно быть запечатлено славой духа, как дух славой Божией <…> Учение, что тело должно сделаться <…> органом духа, получает в христианском миросозерцании такой обширный нравственный смысл, какой и не предполагается в нем с первого разу» [2, с. 101].
Список литературы Духовно-воспитательный компонент житийной литературы
- Велижанина А. О. Об основных аспектах рассмотрения православного текста/Вестник Нижегородского государственного технического университета. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. 2016. № 1. С. 49-55.
- Демков М. И. Педагогические правила и законы//Педагогический сборник. 1899. № 8. С. 87-113.
- Духовность //Русская энциклопедия. URL: http://enc-dic. com/enc_rus/Duhovnost-38/. (Дата обращения 20.06.2017.)
- Епанчин А. А. «Господь поставил меня собирателем»: Из краеведческого архива А. А. Епанчина. Муром: , 2013. 136 с.
- Житие преподобных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Муром: Изд-е Свято-Троицкого женского монастыря г. Мурома, 2003. 26 с.
- Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Свято-Владимирское Братство, 1993. 224 с.
- Исаак Сирин, преподобный. Преподобного отца нашего Исаака Сирина слова подвижнические. М.: Лепта Книга, 2008. 800 с.
- Русский язык, культура речи, стилистика, риторика: учеб. пособие/под ред. В. В. Филатовой. Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2014. 271 с.
- Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 1: Вопросы воспитания. М.: Учпедгиз, 1953. 656 с.
- Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии. Том первый//Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5. М.: Педагогика, 1990. 528 с.
- Явления и чудеса святых ангелов //Православие и Любовь. URL: http://pravoslavielove.ucoz.ru/publ/pravoslavnaja_informacija/javlenija-i-chudesa-svjatykh-angelov/2-1-0-651. (Дата обращения 20.06.2017.)