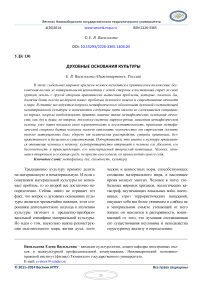Духовные основания культуры
Автор: Василькова Елена Васильевна
Журнал: Science for Education Today @sciforedu
Рубрика: Философские и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 4 (20), 2014 года.
Бесплатный доступ
В эпоху глобальных мировых кризисов человек находится в критическом положении: бесконечная погоня за материальными ценностями с одной стороны и постоянный страх за свою хрупкую жизнь с другой стороны практически вытеснили проблемы, которые, казалось бы, должны быть всегда на первом плане: проблемы духовного поиска и существования личности в мире. В статье исследуются вопросы метафизического обоснования духовной составляющей нематериальной культуры и намечаются следующие пути выхода из сложившейся ситуации: во-первых, назрела необходимость принять наличие таких метафизических оснований личности, как дух и душа; во-вторых, поскольку система мировоззрения, лишенная метафизической основы, уже давно показала свою ограниченность и несостоятельность, признание метафизической стороны бытия человека может отклонить человечество от стремления достичь только материальных благ, уберечь от психических расстройств, суицида, криминала, безнравственного и бесцельного существования. Подчеркивается, что именно в культуре проявляется отношение человека к вечному; культуротворчество открывает в человеке его Абсолют, его бесконечность и трансценденцию, его неисчерпаемый творческий потенциал. Человек, занимаясь творением и создавая среду, не просто воссоздает, он превосходит самого себя.
Метафизика, дух, духовность, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147137567
IDR: 147137567 | УДК: 130 | DOI: 10.15293/2226-3365.1404.03
Текст научной статьи Духовные основания культуры
Традиционно культуру принято делить на материальную и нематериальную. И если с описанием материальной культуры не возникает проблем, то со второй все достаточно неопределенно. Сейчас никто не отрицает тот факт, что вопрос о духовных основаниях культуры является чрезвычайно важным, хотя сторонники деятельностного подхода к изучению культуры тяготеют к предметно-преобразовательной специфике материальной культуры. Но идея о том, насколько важна реконструкция мыслительного мира, жизни духа, логи- ческих и ценностных норм, способствующих созданию материального мира, в настоящее время волнует многих. Человек в эпоху глобальных мировых кризисов, экологических катастроф, неутихающих локальных войн, постоянных угроз террористических нападений, ощущает себя все более уязвимым и слабым не в материальном смысле утекающей от него жизни; он находится в растерянности, возникающей от того, что духовная составляющая его существования неуловима и неподвластна структурному анализу и определению.
Василькова Елена Васильевна – кандидат культурологии, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации, Нижневартовский экономикоправовой институт (филиал) Тюменского государственного университета.
Все права защищены

4(20)2014
ISSN 2226-3365
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию в этом направлении и наметить некоторые пути выхода из нее для отдельного человека, ставшего на путь духовного познания и совершенствования.
Несмотря на то, что определений термина «культура» существует великое множество, ни один из исследователей не нашел единственно верной для всех измерений культуры дефиниции. В. К. Суханцева считает, что в науке нет даже условных определений культуры и человека: «…бесконечно изучая следы и последствия, мы по-прежнему находимся в парсеках от сущности, ради которой собрались (или нас собрали). <…> за пост- и постпостмодернистскими интенциями культурного самосознания стоит и никуда не девается метафизика культуры, ее трансцен-денция...» [5, с. 7]. В теории от нее можно отойти. А в реальной жизни? Когда речь идет о живых людях, о трагически погибающих в терактах или катастрофах, либо умирающих от неизлечимых болезней? В реальной жизни каждый человек неизбежно сталкивается с двумя реальностями - реальностью повседневной жизни и реальностью смерти. Вернее, речь идет об отношении к этим двум реальностям бытия. И если отношение людей к смерти широко отражено в философии, литературе и т. д., то отношение к жизни как таковой в ее повседневности очень неустойчиво, размыто. Реальности жизни и смерти парадоксально едины «хотя бы потому, что смерть является единственным выходом из обыденности», причем «координаты посмертного бытия каждый определяет для себя сам…» и «шкала совести есть на самом деле шкала отношения к смерти» [5, с. 8]. И эта самая шкала отношения к смерти переместилась на нулевую отметку: смерть стала обыденностью, «она перестала быть трагедией социума». Смерть - трагедия отдельной личности, она находится в «экзистенциальных глубинах личности», там, где должна находиться культура. Но в этих же глубинах находится и обыденность, которая «размывает культурную форму и превращает время в сплошность», которая прерывается всего лишь раз. В. К. Суханцева справедливо указывает, что все сегодняшние постмодернистские всплески по поводу единения текстов, стилей, жанров, предполагающие наличие иронии в отношении как к жизни, так и смерти, конечно, дают свой результат, поскольку ирония кажется нам спасительной; но «в эпицентре культуры <…> места иронии нет, поскольку там находится трагедия» [5, с. 12]. В мире-тексте трагическое не предусматривается. Еще Н. Бердяев справедливо считал, что «…философские направления нужно делить по их отношению к трагедии. Всякая философия, которая исходит из трагедии и считается с ней, неизбежно трансцендентна и метафизична, всякая же философия, игнорирующая трагедию и не понимающая ее, неизбежно позитивна, хотя бы и называла себя идеализмом...» [цит. по: 5, с. 12]. Поскольку повседневность и смерть в наше время очень тесно связаны, то «само нахождение в обыденности как единственно наличествующей реальности трагично как таковое» [5, с. 13]. Причем в повседневности трагичность людьми не рефлексируется, рефлексия происходит только тогда, когда человек оказывается лицом к лицу со смертью. И снова слова Н. Бердяева: «Все наше философское и моральное миросозерцание должно быть перестроено так, чтобы в центре был вопрос об индивидуальной человеческой судьбе <…> Давно уже пора нам встать на точку зрения трансцендентного индивидуализма, единственной философии трагедии, а не обыден-
Все права защищены
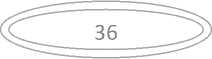
4(20)2014
ISSN 2226-3365
ности, и переоценить согласно с этим все моральные ценности» [цит. по: 5].
В философии трагедии находится метафизика культуры. Метафизические основания культуры базируются на метафизических основаниях личности. Так же, как и личность, культура единична и уникальна. По словам В. К. Суханцевой, культуру можно классифицировать, периодизировать, выводить типологические черты и т. д., но в ее основании есть нечто единичное и единственное. Отсюда возникает вопрос: что же такое единственное нечто наличествует в основании культуры? Здесь, перефразируя автора, скажем, что существо, «отягощенное культурой» - это существо, отягощенное духом. Поэтому такие понятия, как «дух», «метафизика» и «трагедия» составляют категории, без которых культура просто не может существовать. Анализируя словарные определения понятия «дух», автор не удовлетворяется ни одним из них и дает собственное определение, приводимое нами ниже. Дух, считает она, это «эн-телехийное основание человеческого существования, обусловливающее восхождение органической жизни к историческому бытию. В координатах социальной истории он может объективировать себя только в виде культуры». Но: «дефинитивная неуловимость духа и культуры обусловлена их целостностью, которая при малейшей попытке структуризации моментально утрачивает сущность». Анализируя исследования философов разных времен и направлений, изучавших духовную составляющую личности, автор приходит к выводу о том, что человеческий дух постоянно находится на грани обыденности и смысла жизни; последнее определяет пространство культуры.
В результате того, что культура все время присутствует в обыденности и в то же время противостоит ей, возникает так называемая «предметность культуры» и одновре- менно происходит становление культуры, «где временная стрела <…> «отягощена» пространством, в котором имеет быть культура» [5, с. 23]. Отсюда следует вывод о том, что культура не сводится к предметнодеятельностной определенности, поэтому дух и культура относятся к метафизическому пространству познания. Этого же мнения придерживается Д. К. Бурлака в книге «Метафизика культуры». По его словам, высшей ступенью роста культуры является развитие духовной составляющей. Дух - явление сверхвременное, по сути, вечное. «Дух соединяет время душевной жизни с вечностью идеального порядка бытия - структурирует динамику времени и оживляет структурность идеально-сущего» [1, с. 73]. В полном смысле слова культура, считает Д. К. Бурлака, - свершившаяся энергия духовнодушевной жизни. Каковы же смыслообразующие составляющие духа? Материей для культурно-исторического творчества является душевная стихия, благодаря которой творится человечность. В этом процессе появляется так называемое виртуальное тело культуры. «В культуре человек творит своих “ангелов”» [1, с. 74]. Творческие произведения продолжают и после кончины своих творцов овладевать душами живущих, образуя пространство культуры. Именно в этом пространстве человек встречается с другим человеком как личность с личностью (тогда как в физическом пространстве мы сталкиваемся друг с другом порой как атомы и взаимодействуем как животные). Здесь проявляется двойственность культуры. «С одной стороны, она пребывает вне времени и пространства, в ней Пушкин “весь не умер”, но, с другой стороны, она находится внутри времени, если понимать под таковым не космическое время, а историю. Социальная история сама по себе является экзистенциально “плоской”, форми-
Все права защищены
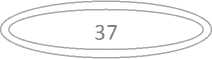
4(20)2014
ISSN 2226-3365
руясь линиями пересекающих друг друга событий. Культура создает объемность плоскости исторического существования людей. Однако пространство культуры внутриисторично, поэтому судьба его связана с судьбой всего созданного в истории» [1, c. 74].
Если рассматривать душу человека как триединство чувства, ума и воли, то их проекция видна в культуре. Согласно автору, душевно-духовную жизнь человека представляет искусство, воля выражается в социальной сфере, а рассудок и разум – в научнотехнической. В отношении ко времени душа представляет собой снова триединство, но уже памяти, созерцания (или переживания) и намерения. Как уже отмечалось, важной онти-ческой функцией культуры является то, что культура – память истории. Ведь после того, как события проходят, после них остаются смыслы и значения, составляющие суть культуры. «Культура, можно сказать, держит историю в сущем. Без культуры история была бы бегом из небытия в небытие <…> культура – надвременное сущее, сотворенное человеком» [1, c. 75].
Выдающийся ученый Ю. С. Владимиров также утверждает о существовании метафизического принципа тринитарности, господствующего повсюду. Будучи физиком, он пришел к выводу о том, что в настоящее время ключевыми проблемами физики стали проблемы, которые волновали философов и богословов на протяжении двух с половиной тысяч лет. «Физика вскрыла чрезвычайно важные принципы, некоторые из которых сквозным образом пронизывают все сферы бытия от элементарных частиц до духовной жизни человека» [2, c. 51]. На страницах первой книги «Между физикой и метафизикой» автор размышляет о философах древности и более позднего времени, указывая на тот факт, что для античных мыслителей и есте- ствоиспытателей средневековья метафизика была системой представлений об основах бытия, о первичных понятиях и закономерностях мироздания. Данные представления толковались в рамках господствующих в то время философско-религиозных учений. И. Кант считал метафизику «чистым философским познанием», утверждая, что принципы метафизики не берутся из опыта, поскольку она является познанием вне опыта. Для В. Джеймса метафизика – стремление мыслить «ясным образом». Б. Рассел утверждал, что метафизика – это попытка охватить мир как нечто целое с помощью мышления. Для М. Борна метафизика – исследование общей структуры мироздания и наших методов проникновения в эту структуру. Анализируя работы русских философов «серебряного века», Ю. С. Владимиров отмечает, что в них намечены основные направления для изучения закономерностей, которые можно обнаружить при изучении физической картины мира, в сферах культуры и социальной сфере.
В основе многих древних мифов лежат так называемые универсальные семантические оппозиции (например, мужское – женское, хорошее – плохое, жизнь – смерть, добро – зло, день – ночь, и т. д.). Конфликты, возникающие в таких бинарных оппозициях, разрешались либо безусловной победой одной из сторон, либо происходило возникновение так называемого медиатора-посредника – третьей стороны, которая должна была гармонизировать конфликтные отношения. Подавляющее количество мифов прошлого (отражающих теогонические, космогонические и антропологические представления) строились на структурах, получивших название тринитарных. Это было отражением метафизического принципа троичности (триединства). Автор приводит множество примеров мифов разных народов и анализирует этот принцип,
Все права защищены

4(20)2014
ISSN 2226-3365
проявляющийся в них. Кроме того, примерами также служат философия Платона, Аристотеля, христианство с догматом Святой Троицы. Все эти примеры достаточно весомо свидетельствуют о том, что еще в давние времена в нашем мире были замечены принципы тринитарности. Более поздние философско-религиозные учения опираются на три метафизических начала: идеальное (или рациональное) начало, связанное с разумом; материальное начало, т. е. бытие, данное в ощущениях; и духовное начало, связанное с человеческой волей и верой.
Ю. С. Владимиров представляет мироздание в виде куба: здесь первоначало (Бог) рассматривается как сам куб, а упомянутые выше три начала сопоставимы с тремя осями: разум соответствует идеальному началу, душа - духовному, а тело - материальному.
Делается очень важный вывод о том, что посредством лишь одного из начал невозможно охватить всю действительность в ее многообразии. «В физике рубежа второго и третьего тысячелетий постепенно осознается ограниченность возможностей каждого из трех <…> физических миропониманий: теоретико-полевого, геометрического и реляционного, и все чаще возникают призывы к поиску принципиально новой одной теории, которая фактически будет соответствовать монистической метафизической парадигме» [2, с. 215]. Автор подчеркивает, что в трудах русских философов «Серебряного века» содержался призыв к решению аналогичной задачи в рамках философско-религиозных систем, указывалась ограниченность каждого из мировоззрений и отстаивалась необходимость построения триединой философской системы. В. С. Соловьев, отец Сергий Булгаков и другие русские философы считали необходимым построение системы единого знания, основанного на синтезе науки, философии и рели
Каковы же все-таки самые общие основания культуры? Идея так называемого прогрессивного развития абсолютно чужда культуре, т. как она является областью, где не может быть увеличения и нарастания. Специфика «измерения» культуры проясняется только на фоне исторического развития человека и ее внутренней диалектики. Если все человечество как род неиссякаемо, то жизнь отдельной личности, ощущающей ужас биологического ухода, должна поддерживаться определенными опорами. Такими опорами служат культура и память. В. К. Суханцева выводит следующие основания культуры. Во-первых, это память как родовое качество человека. Во-вторых, историческое инобытие, в котором пребывает родовая память; последняя неотделима от трансценденции, органически присущей человеку и вырывающей его из биологически-природного становления. В-третьих, трансценденция вещного мира, или смыслоценностная сторона всеобщей связи вещей. У этого основания находится фундаментальная связь культуры и языка. Язык «аккумулирует в себе смыслоценность и ра-
Все права защищены

4(20)2014
ISSN 2226-3365
финирует в культуре ее собственную сущность» [5, с. 31]. Любое слово как «имя» вещи – это универсалия, «ограничивающая в сознании выступание вещи из сплошности». Любые грамматические конструкции выступают как реликты, в недрах которых «хранятся следы бурного горообразования словесных пород, когда древний Логос, еще не остывший, еще вулканически подвижный, пробивал себе русло в праязыках, чтобы в последствии воплотиться в системе этих самых универсалий» [5, с. 31]. Культура в итоге являет собой пространство всеобщего Логоса, или метаязыка, который «смыкает самостоятельные языковые сущности в единую смыслооб-разовательность» [5, с. 31]. В культуре вещь трансцендирует в слово. А словесная транс-ценденция вещи – это ее символическое инобытие. Ясно, что культура вбирает в свое историческое пространство не вещи, а их смыслы с помощью символов, в том числе слов. Но вопрос в другом: каково соотношение символа и смысла как носителей «хромосомного кода» культуры? Здесь определяется четвертое основание культуры – диалектика символа и смысла, когда язык выступает местом встречи трансцендирующей вещи и эк-зистирующего человека. «Культура и человек взаимно порождали друг друга. Культура выступила из пучин до- и праистории тогда, когда человек, обладающий бытием как наличием, это наличествующее обладание осознал. Парадигмы сознания отлились в мифе и Логосе; хаос обретал имена; имя центрировало память и неминуемо перетекало в символ. Наступала культура, сквозь которую то, дородовое, смутное и сплошное бытие уже не различалось. Слившись с бытием, культура привнесла в него качественно иные сущности: трансценденцию и дух, эсхатологическую проблематику, полифонию времени – все то, что, не имея субстанциональных оснований,
В своей культуросозидающей деятельности человек образует мир намного больший, чем он сам. Человек создает среду своего обитания и в изменении этой среды творит человечность (по словам Д. К. Бурлаки), зачастую без четкой рефлексии своих планов. Человек является не только носителем идеи, но и ее разрушителем, но главное, творцом. Человек, создавая феномены культуры, не погибает в этой трансцендентности, а наоборот, только благодаря ей, осуществляет свою человечность. Культура – самобытная реальность, тесно связанная с историей, обществом, но по существу своему очень отличается от них. По мнению автора, истории в полном смысле слова «бытия» нет, она создается в некоем отрезке времени, в «просвете» между бытием и ничто. Человеческие сообщества и даже цивилизации исчезают, и только порожденные ими ценности и смыслы продолжают свою жизнь в новых поколениях и условиях. Культура, таким образом – это память истории. Помимо этого, культура – система «внутренне активных энергий», творчество, постоянно поддерживающее жизнь всего того, что было создано на протяжении истории человечества. В культурной памяти истории остаются только те деяния, которые являлись и являются смыслозначимыми. А смыслы могут быть совершенно разными, они могут носить как истинный характер вечных ценностей, так и огромное количество ошибок и заблуждений. «Человек не властен над бытием и небытием созданных им идей и вещей, он не может ни предвидеть, ни предопределить, ни промышлять об их судьбе. Вещи, которые он создал, человек иногда может делать своей собственностью или уничтожать. Но над идеями, которые выпущены в свободное плавание, – а культура и есть совокуп-
Все права защищены
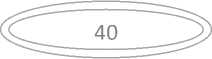
4(20)2014
ISSN 2226-3365
ность таковых, – человек уже не властен. Ему остается лишь мечтать, но не дано предугадать, как его слово отзовется» [1, c. 57].
Интересно сравнение развития культуры с ростом живых организмов. Д. К. Бурлака считает, что в процессе своего становления над природно-космическим бытием, культура повторяет развитие растительных и животных организмов: из первичной, так называемой «клетки», либо при взаимодействии материнской (природной) и отцовской (разумно-волевой) «клеток» постепенно развивается определенная целостность. То есть, скрыто существуя в зародыше первой «клетки» (или, по словам автора, находясь на нулевом уровне), культура постепенно развивается до самостоятельных отдельных форм духовной жизни (коими, по определению автора, являются наука и техника, государство и право, искусство и философия). Но, «при этом не всякая цивилизация дорастает до философии или развитого правового сознания, возвышающегося над стихией экономической и политико-государственной жизни» [1, с. 59]. Многие цивилизации так и остаются на нижнем уровне роста культурного организма – на уровне, представляющем комплекс связей человека только с природно-космическим бытием. Первичным же отношением человека к природе является техника, являющаяся совокупностью орудий, с помощью которых человек воздействует на природу, подчиняет ее себе («культивирует») и умеет («технэ») возделывать.
Отношение к вечности неискоренимо из содержания человеческой жизни (хотя не всегда проявляется сознательно). Культура генетически выстраивается как сознание человека вне времени. Отношение к вечному определяет переживание времени. Метафизическое знание погружает нас в поток становления. Абсолют сам вовлекается в этот процесс и оказывается подверженным развитию и становлению. Человек становится центральным моментом этого развития, приобретающим абсолютное значение личности. Абсолют (Первоначало, Бог) всегда мыслится трансцендентным миру и человеку, но человек всегда находится в непостижимой связи с ним (метафизика поэтому и считается некоторыми исследователями осмысленной и рационализированной религиозностью). Человек признается существом незамкнутым, бесконечным, абсолютным, открытым в своей трансцендентной сущности, обладающим неисчерпаемым творческим потенциалом. Поэтому и культуротворчество есть трансценденция. Человек, создавая среду, в которой живет, не просто репродуцирует, он превосходит самого себя.
Таким образом, культура – это не только память, история, язык и ценности народа. Культура имеет духовную составляющую, выражающуюся в смыслах, выпущенных человеком в свободное плавание. Поэтому за все, что происходит с человеком и обществом, отвечает сам человек.
Список литературы Духовные основания культуры
- Бурлака Д. К. Метафизика культуры. -3-е изд. -СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2009. -352 с.
- Владимиров Ю. С. Между физикой и метафизикой. Кн. 1: Диамату вопреки. -М.: Либрокон, 2010. -280 с.
- Захаров В. Д. Метафизический образ мира//Метафизика. -№ 1. -2012. -С. 15-38.
- Зенин С. В. Мировоззрение, новая парадигма, открытие духа материи//Метафизика. -№ 2. -2012. -С. 140-155.
- Суханцева В. К. Метафизика культуры. -К.: Факт, 2006. -368 с.