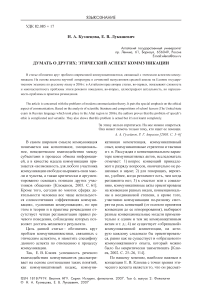Думать о других: этический аспект коммуникации
Автор: Кузнецова Н.А., Лукашевич Е.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье обозначен круг проблем современной коммуникативистики, связанный с этическим аспектом коммуникации. На основе анализа научной литературы и сочинений выпускников средней школы на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2006 г. в Алтайском крае авторы статьи, во-первых, показывают сложность и многоаспектность проблемы этики речевого поведения, во-вторых, иллюстрируют актуальность, но нерешенность проблемы в практике речеведения.
Короткий адрес: https://sciup.org/14736861
IDR: 14736861 | УДК: 82.085
Текст научной статьи Думать о других: этический аспект коммуникации
В статье обозначен круг проблем современной коммуникативистики, связанный с этическим аспектом коммуникации. На основе анализа научной литературы и сочинений выпускников средней школы на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2006 г. в Алтайском крае авторы статьи, во-первых, показывают сложность и многоаспектность проблемы этики речевого поведения, во-вторых, иллюстрируют актуальность, но нерешенность проблемы в практике речеведения.
The article is concerned with the problems of modern communication theory. It puts the special emphasis on the ethical aspect of communication. Based on the analysis of scientific literature and compositions of school leavers (The United state exam in Russian language which took place in the Altai region in 2006), the authors proves that the problem of speech’s ethic is complicated and versatile. They also shows that this problem is actual but it’s not learnt completely.
В самом широком смысле коммуникация понимается как когнитивное, эмоциональное, поведенческое взаимодействие между субъектами в процессе обмена информацией, а в качестве идеала коммуникации признается «возможность для любого участника коммуникации свободно выражать свои мысли и чувства, а также критически и аргументированно освещать позиции других участников общения» [Клюканов, 2005. С. 61]. Кроме того, сегодня во многих сферах деятельности человека все чаще используются словосочетания «эффективная коммуникация», «успешная коммуникация», но при этом в теории и в практике речеведения отсутствует четкая регламентация правил речевого поведения, соблюдение которых позволяет достичь желаемого результата.
Цель данной статьи – обозначить круг проблем коммуникативистики, связанных с этическим аспектом, и наметить специфику данного аспекта по отношению к процессу коммуникации.
Так, Е. В. Клюев успешность речевого взаимодействия коммуникантов рассматривает на основе соотношения таких понятий, как коммуникативный кодекс, коммуни-
За этику нельзя спрятаться. На нее можно опереться. Она может помочь только тому, кто ищет ее помощи.
А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян [2005. С. 5–6]
кативная компетенция, коммуникативный опыт, коммуникативные стратегии и тактики и т. п. Рассуждая о конвенциональном характере коммуникативных актов, исследователь отмечает: 1) вопрос конвенций принадлежит к разряду вопросов, окончательно не решенных в науке; 2) для говорящих, вероятно, удобнее, когда регламент есть, чем когда регламента нет; 3) к счастью или к сожалению, коммуникативные акты ориентированы на конвенции разных видов, конвенциональны в неодинаковой степени, а кроме того, участники коммуникации по-разному смотрят на роль конвенций (от полного принятия конвенции до ее игнорирования), выбирают разные конвенциональные модели применительно к одним и тем же коммуникативным актам и т. д.; 4) не существует «образцовой» коммуникативной компетенции, на которую каждому следовало бы ориентироваться, равно как не существует и «образцового» коммуникативного опыта, который можно было бы некритически заимствовать [Клюев, 2002. С. 25–26, 114].
По нашему мнению, наиболее важным в концепции Е. В. Клюева с точки зрения этического аспекта является то, что он рассмат-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 2: Филология © Н. А. Кузнецова, Е. В. Лукашевич, 2007
ривает коммуникацию как сотрудничество адресанта и адресата, как их коммуникативный контакт. Поэтому анализ принципа кооперации Г. П. Грайса с этих позиций позволяет ему акцентировать следующие моменты: дозировка информации есть во многом вопрос «ощущения собеседника»; представление об истинной коммуникативной цели адресанта можно составить, наблюдая за его коммуникативными тактиками; фактор доверия – одно из самых важных условий успешной коммуникации; как стратегическая задача неотклонение от темы имеет первостепенное значение именно для сохранения контакта; вопрос о степени «ясности» высказывания есть вопрос не только о степени «осознанности высказывания» продуцентом, но и о степени подготовленности реципиента к восприятию информации [Клюев, 2002. С. 117–155]. Однако более значим для взаимодействия адресанта и адресата, по мнению Е. В. Клюева, принцип вежливости Дж. Н. Лича, так как « при игнорировании требований этого принципа собеседниками контакт неизбежно срывается : подрывная сила “коммуникативной стратегии грубости” очень велика», а соблюдение этого принципа «как бы создает “ среду позитивного взаимодействия ”, обеспечивая благоприятный фон для реализации коммуникативных стратегий» [Там же. С. 155–157] (здесь и далее курсив наш. – Н. К. , Е. Л. ). В аспекте категории контакта нам представляется значимым и следующее замечание автора: «Можно даже утверждать, что без следования принципу вежливости разговор о принципах кооперации преждевременен » [Там же. С. 157].
Основное содержание принципа вежливости интерпретируется Е. В. Клюевым следующим образом: отказ от конфликтной ситуации во имя решения более серьезных задач; забота о соблюдении интересов собеседника уже изначально не менее важна, чем забота об удовлетворении собственных интересов; речевое взаимодействие есть обмен коммуникативными стратегиями, обмен же – процедура добровольная; позитивность как принцип оценки других, скорее, должна лежать в основе мировосприятия участников коммуникации; самооценки коммуникантов, не слишком отличающиеся от «этического стандарта», являются фактически одним из условий успешного развертывания коммуникативного акта [Там же. С. 155–179].
В научной литературе по проблемам ком-муникативистики, риторики, культуры речи все чаще подчеркивается мысль о том, что успешная коммуникация базируется на общепринятых нравственных нормах, что принцип вежливости может рассматриваться как принцип взаиморасположения коммуникантов в структуре коммуникативного акта, т. е. на основе соотношения с социальным статусом адресанта и адресата. Например, А. К. Михальская относит к рамкам речевого поведения ролевые и иерархические отношения в коммуникации [Михальская, 1998. С. 338]. В. И. Карасик утверждает, что «социальный статус человека как категория прагмалингвистики основывается на постулатах общения и прежде всего на постулате вежливости» [Карасик, 2002. С. 284]. «Язык социального статуса, – отмечает исследователь, – представляет собой сложную систему значений соотносительного неравенства между участниками общения. Эти значения выражаются в жизненных стилях людей, культурных ценностях и нормах поведения» [Там же. С. 282]. И. А. Стернин настаивает на том, что «эффективному общению, культуре общения в обществе надо учиться как основам грамоты, как умению читать и писать, поскольку это – действительно грамотность, необходимая каждому» [Стернин, 2001. С. 5]. По его мнению, коммуникативная грамотность включает два уровня: 1) владение речевым этикетом для стандартных коммуникативных ситуаций; 2) знание и применение правил и приемов эффективной коммуникации в стандартных ситуациях общения [Там же. С. 47–48]. Е. В. Клюев подчеркивает, что адресант «должен отдавать себе отчет в том, имеет ли он право начать коммуникативный акт, и если имеет, то должен ли и каким образом должен маркировать речевую ситуацию»; «с модальностью роли инициатора коммуникативного акта важно еще и уметь справиться, особенно если речь идет не о том, чтобы осуществить коммуникативный акт любой ценой, но о том, чтобы осуществить его успешно, т. е. придав ему коммуникативную перспективу» [Клюев, 2002. С. 30–33]. Как видим, акцентируемые в рамках разных направлений признаки успешной, эффективной коммуникации практически полностью пересекаются с содержанием максим принципа вежливости Дж. Лича: такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, симпатии, поэтому главное проявление этики речевого общения, как считает Л. Е. Тумина, состоит в учете говорящим воздействия своей речи на слушающего [Тумина, 2005. С. 510].
А. К. Михальская предлагает объединить в рамках лингвоэтологии «ряд направлений современной лингвопрагматики, в центре внимания которых находится речевое поведение человека» [Михальская, 1998. С. 20], и отмечает, что в лингвоэтологии вежливость определяется как учет говорящим результатов воздействия своего речевого поведения на адресата, постоянный контроль и корректировка речевого воздействия с целью оптимизировать общение, сделать его успешным [Там же. С. 354]. Природа комплексного феномена вежливости, в речевом общении проявляющегося на всех его уровнях, двойственна, противоречива. Ведь сущность вежливости, как отмечает А. К. Михальская, состоит в привычном, отработанном использовании сложившихся в той или иной культуре традиционных приемов, позволяющих уравновесить в каждом речевом акте две противоположные тенденции общения: 1) стремление проявить дружелюбие, сблизиться с другими, а вместе с тем и 2) стремление сохранить свою индивидуальность, «суверенитет», определенную дистанцию [Там же]. При этом автор подчеркивает, что категория «вежливость» в составе понятия «принципы речевого поведения» имеет иное содержательное наполнение, чем слово вежливость в нетерминологическом значении и чем соответствующий термин этики и теории речевого этикета. А. К. Михальская основывается на сформулированных Робин Лакофф «правилах вежливости» (Rules of Politeness), отмечая, что в более поздних трудах ученого они называются «правилами контакта» – Rules of Rapport. Вежливость в лингвоэтологическом смысле понимается как условия осуществления языком его социальной функции. «Лингвоэтологи и социолингвисты исходят из допущения, что в общении человеком движет как потребность получить одобрение со стороны окружающих, так и потребность не впасть от них в полную зависимость. Поэтому считают, что и семантика вежливости имеет два главных аспекта – так называемые «положительный» и «отрицательный». Позитивная вежливость использует арсенал всех принятых в данной речевой культуре приемов и способов проявления стремления к сближению с собеседником (средств соблюсти так называемое «позитивное лицо»); негативная вежливость – это система средств соблюдения нужной дистанции: проявления уважения и пр., т. е. признания неравного статуса членов данной социальной группы», – подчеркивает А. К. Михальская [Там же. С. 353–355]. Эти требования реализуются в «шкале» различных стратегий вежливости: 1. Не навязывайся (дистанция). 2. Предоставь право выбора (уважение). 3. Будь дружелюбен (дружеская простота, непосредственность) [Там же].
Признание в качестве ведущего фактора успешной коммуникации необходимости сотрудничества адресанта и адресата обусловило интерес исследователей к личности идеального коммуникатора. Так, А. К. Михальская рассматривает риторический идеал : «исторически сложившуюся иерархически организованную систему наиболее общих требований к речевому произведению и речевому поведению, т. е. парадигму риторических категорий, отражающих парадигму категорий общеэстетических и этических, характерную для той культуры, в которой данный риторический идеал сформировался и функционирует» [Там же. С. 11]. И. А. Стернин представляет результаты экспериментального исследования русского коммуникативного идеала – стереотипного представления об идеальном собеседнике в сознании россиян: умеет слушать, вежливый, воспитанный, с хорошими манерами, тактичный, не грубый, культурно говорит, способный понять, дружелюбный, доброжелательный, умеет не спорить, соглашаться, не навязывает свою точку зрения, спокойный, сдержанный, интеллигентный, общительный, легкий в общении, откровенный, открытый, искренний, оптимист, веселый, с чувством юмора [Стернин, 2000. С. 165]. А. П. Сковородников указывает, что «этико-речевые ошибки чаще совершают люди, которым свойственны вспыльчивость, раздражительность, прямолинейность, себялюбие, упрямство, обидчивость, мстительность, пристрастность <…> и некоторые другие негативные качества», так как на уровень этичности общения оказывают существенное влияние не только коммуникативная компетентность общающихся, но и их личностные качества [Сковородников,
2003. С. 438]. На наш взгляд, наиболее детально и перспективно эта проблема разрабатывается сегодня в рамках корпоративной культуры и этики, так как умение осуществлять успешную коммуникацию, эффективное взаимодействие относится к основным критериям оценки профессионализма.
По нашему мнению, разнообразие терминов, относящихся к сфере этики речевого общения, – коммуникативные / прагматические постулаты (импликатуры, максимы, принципы, правила, стратегии, конвенции и т. п.) речевого общения / поведения и др. – свидетельствует, во-первых, о сложности и многоаспектности самого явления, во-вторых, об актуальности, но нерешенности проблемы в практике речеведения. Коммуникативные постулаты выделены в прагматике на основе практических наблюдений за действительным, преимущественно обиходным взаимодействием людей, но большинство постулатов имеет прескриптивный, т. е. предписывающий, характер и может сознательно или бессознательно соблюдаться или не соблюдаться коммуникантами [Туми-на, 2005. С. 510–511].
Мы считаем, что ситуация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку дает уникальную возможность выявить степень готовности выпускников средней школы к осуществлению эффективной коммуникации. В этом смысле сочинения школьников представляют своеобразный моментальный срез современной социокоммуникативной ситуации в российском обществе.
По замыслу организаторов и разработчиков ЕГЭ, сочинение-рассуждение на основе предложенного текста (часть С) позволяет определить уровень сформированности ряда речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции учащихся. Последним предлагается самостоятельно сформулировать проблематику текста и авторскую позицию, аргументировать собственную точку зрения на предложенную проблему, а заложенная в формулировке задания возможность согласиться или не согласиться с автором нацеливает учащихся на «диалог с текстом», т. е. на практике призвана актуализировать коммуникативные умения и навыки учащихся.
Сознательность и преднамеренность коммуникативного акта как необходимые и до- статочные признаки соблюдения коммуникативного кодекса здесь очевидны. Однако коммуникативные цели и намерения школьника, автора сочинения-рассуждения, обусловлены ситуацией экзамена – искусственной учебной речевой ситуацией. Последняя в том виде, в каком она предлагается на ЕГЭ, представляет собой некую имитацию функционально-ролевого общения на интеллектуально-этические, интеллектуально-эстетические и т. п. темы. И хотя в таком общении принцип добровольности не соблюдается, разработчики контрольных измерительных материалов при подборе текстов учитывают преобладающие в речевой деятельности старшеклассников мотивы познавательного и социального характера, создавая тем самым условия для самовыражения личности. Это позволяет говорить о соответствии предлагаемой коммуникации критерию истинности (верность действительности) и критерию искренности (верность себе), в определенной степени корректируемых ситуацией экзамена.
Речевые конвенции в этом случае четко регламентированы учебной речевой ситуацией в целом и формулировкой задания к части С в частности.
Так, в 2007 г. разработчики тестов в качестве отдельного критерия для проверки сочинения предлагают экспертам предметной комиссии по русскому языку оценить соблюдение выпускниками этических норм. При этом под этической ошибкой понимаются «проявления речевой агрессии, как внешне выраженные, так и скрытые» 1. Речевая агрессия, по мнению авторов тестов, – «грубое, оскорбительное, обидное общение, словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов. Например, Этот текст меня бесит; Судя по тому, что говорит автор, он маньяк» 2. Появление в критериях оценки сочинения данного требования, по нашему мнению, свидетельствует об осознании методической актуальности проблемы, однако знакомство с конкретными работами выпускников средней школы, во-первых, демонстрирует сложность и неоднозначность оцениваемых проявлений вербальной агрессии ученика, а во-вторых, обнаруживает отсутствие четких теоретических оснований выделения тех или иных этических норм в коммуникации, принципов их классификации и методики анализа.
В статье «О современной концепции отечественной риторики и культуры речи» Л. К. Граудина выделяет в речи: 1) пласт ортологических структур , соответствующий критерию правильности речи в рамках оппозиции “правильно / неправильно”; 2) пласт нормативно-этических языковых структур в рамках оппозиции “прилично / неприлично, пристойно / непристойно”; 3) пласт структур, относящихся к нормам речевого этикета (“принято / не принято”); 4) пласт экспрессивных структур . Последние относятся к орнаментальному разделу риторики и характеризуются оппозицией “выразительно / невыразительно” [Граудина, 1996. С. 164]. Л. К. Граудина указывает на необходимость отличия нормативно-этических структур от этикетных. Этикетные нормы, считает исследователь, носят ритуальный характер и далеко не всегда отражают подлинную нравственную культуру личности. Нормативно-этические структуры, в отличие от этикетных, соответствуют кодексу поведения человека, обеспечивающего социально-нравственный характер речевых взаимоотношений между людьми, и отвечают сложившимся в этом обществе этическим нормам [Там же. С. 165]. Л. К. Грауди-на и Е. Н. Ширяев считают, что необходимо согласовывать языковые и нравственные нормы. Вероятно, сложно предусмотреть все возможные случаи социальной практики и речевых ситуаций, однако все же выработка общих принципов возможна [Культура…, 1998. С. 167].
А. В. Баринова отмечает, что в работах по речевой культуре в настоящее время, помимо традиционного нормативного аспекта, выделяют коммуникативный и этический аспекты, и в соответствии с тремя этими аспектами предлагает новую типологию норм: 1) структурно-языковые – ошибки орфоэпические, лексические, словообразовательные и др.; 2) коммуникативно-прагматические – стилистические ошибки, в том числе плеоназм, тавтология, смешение стилей; злоупотребление иноязычными заимствова-ниями,ошибкифактические,композиционные и др.; 3) этико-речевые нормы – нарушение этических норм, в том числе правил речевого этикета, лингвоцинизмы, эвфемизмы – дисфемизмы и др. [Баринова, 2003. С. 580].
Мы проанализировали 81 работу ЕГЭ по разным исходным текстам. Сочинения представлены на основе случайной выборки из большого корпуса работ выпускников средней школы 2006 г.
В 25,9 % сочинений абитуриенты вообще не выразили своего отношения к проблематике и позиции автора исходного текста, не сформулировали собственной точки зрения на предложенную проблему. В 35,8 % сочинений выражено согласие с позицией автора предлагаемого текста. Однако, с точки зрения эффективности коммуникации, такое «согласие» неравноценно. Формула « я согласен с автором », как правило, подкрепляется простым повторением (в отдельных случаях развитием) авторских аргументов без опоры на собственные знания, жизненный или читательский опыт. Встречается формальное выражение «согласия» с автором, но при этом неверно сформулирована основная проблема текста.
Анализ таких работ иллюстрирует справедливость утверждения А. К. Михальской о своеобразном содержательном наполнении категории « вежливость » в составе понятия «принципы речевого поведения» (см. выше). С точки зрения этики и норм речевого этикета, в подобных сочинениях этической ошибки нет, но коммуникация не состоялась. Школьники, видимо, и не ставили своей целью оптимизировать общение, сделать его успешным в информативном плане, в результате «стремление проявить дружелюбие» не «уравновешивается» «стремлением сохранить свою индивидуальность, суверенитет» и «правила вежливости» как «правила контакта» нарушены.
Вместе с тем 19,7 % работ демонстрируют нарушение выпускниками и собственно норм речевого этикета. Как правило, это проявляется в фамильярном отношении к автору исходного текста. Нормой в таких сочинениях является называние автора просто по фамилии (часто с ее искажением, например, В. Шефнер – Шафер, Шаврин, Шифрин, Шнифер и т. п.). С одной стороны, встре- чаются работы (более 6 %), «положительно» оценивающие автора с явным нарушением дистанции (принципов так называемой «негативной вежливости»): «Автору хотелось бы пожелать в дальнейшем писать такие же грамотные, интересные тексты»; «…автор очень разумно подходит к этой проблеме»; «…автор полностью справился со своими целями, задачами…» и т. п. С другой стороны, нарушением дистанции является, на наш взгляд, неумеренное восхваление автора исходного текста. Так, малоизвестный публицист может быть назван «великим русским писателем», «известным российским публицистом», а его текст – «творением».
Еще одним примером отступления от принципа вежливости в коммуникации является явно завышенная (в сравнении с «этическим стандартом») самооценка, демонстрируемая авторами сочинений (около 4 % работ): « Я, например, выросла в культурной и образованной семье…»; «Очень часто я хожу с друзьями в театр. Для них это всего лишь развлечение, а я после посещения начинаю задумываться над вопросами о жизни. Мне кажется, я духовно обогащаюсь… »; « …Может быть, поэтому я выросла добрым, честным и справедливым человеком » и т. п.
Лишь в 6 % проанализированных работ выявлены такие нарушения речевого этикета, которые в критериях оценки ЕГЭ квалифицируются как этико-речевые ошибки. Это могут быть проявления речевой агрессии, недоброжелательности; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности; жаргонные слова и обороты. Как правило, в своих сочинениях школьники демонстрируют слабую («стертую») по степени выраженности речевую агрессию, непреднамеренную (реактивную, защитную) по степени целенаправленности и «непереходную» по отношению к объекту [Щербинина, 2004. С. 62–67].
Действительно, некорректные, с точки зрения речевого этикета, высказывания школьников обусловлены, на наш взгляд, проблематикой текста и выражают эмоционально открытую позицию выпускника по отношению к обсуждаемым вопросам. Так, один из персонажей текста В. Аксенова (тема – становление личности в условиях сопротивления насилию), по определению школьника, «наглел», а такое поведение по отношению к слабому недопустимо: «не надо наглеть». В работе-отклике на текст о современных проблемах взяточничества и мздоимства ситуация характеризуется как «беспредел», вызванный «нехваткой денег»: «Сейчас за деньги можно не только убить, но продать родную мать».
Рассуждая, вслед за автором исходного текста, об относительности понятия «золотое детство», абитуриент пишет: « …люди в детстве способны выдерживать большие нагрузки. В том числе и мозговые. Если человеку сорока лет дать такую же нагрузку, как студенту при экзамене, он, наверное, “умрет” или сопьется. А студент – ничего, живет и еще на пары ходит ».
Очевидна агрессивная и в то же время оборонительная позиция школьницы, выраженная синтаксически и интонационно (в исходном тексте рассматривается проблема равнодушного отношения к человеку): « …И что? Человек должен умереть, чтобы мы поняли, какой он на самом деле? Или что? < …> . Но вдруг меня знакомят с таким неопрятно одетым человеком. И что? А мне нравится с ним общаться! ». Другой выпускник также считает, что « нельзя гнобить » людей за их непохожесть на остальных, и прямо пишет: « мне больно » за « наплевательское » отношение окружающих к таким людям.
Объект агрессии в этих работах неопределенный, абстрактный и непосредственно в коммуникации не представлен. Это обобщенно-негативная оценка ситуации, предложенной для осмысления и комментирования в исходном тексте. Возможно, в этих случаях мы оцениваем не только этико-речевую подготовленность школьника, но и этику его мировосприятия в целом, ведь, по справедливому замечанию Е. В. Клюева, позитивность как принцип оценки других, скорее, должна лежать в основе мировосприятия участников коммуникации [Клюев, 2002. С. 176].
Ю. В. Щербинина, рассматривая виды детской речевой агрессии, подчеркивает, что термин «преднамеренная» речевая агрессия применим к тем случаям конфликтного общения, когда главной целью говорящего является причинение коммуникативного вреда адресату (оскорбить, унизить, высмеять, пригрозить и т. п.). Это вербальная агрессия, обусловленная внутренним побуждением. Непреднамеренная агрессия, напротив, характеризует случаи, когда аг- рессор преследует цели, не связанные с причинением вреда. В подобных речевых ситуациях причинение коммуникативного вреда не является для говорящего самоцелью, но ему «так пришлось» или, по субъективному сознанию, «было необходимо действовать» [Щербинина, 2004. С. 64].
В анализируемых нами сочинениях очевидно отсутствие намерения причинить коммуникативный вред автору исходного текста или предполагаемому читателю. Более того, школьник ощущает себя единомышленником автора: он верно понял проблематику текста, авторскую позицию, проникся идеей текста. Он «стремится к сближению с собеседником», что можно рассматривать как своеобразное проявление позитивной вежливости в коммуникации. Но форма выражения собственной точки зрения оказалась отрицательно «заряженной». Это далеко не всегда следует квалифицировать как вербальную агрессию, однако некорректность подобных формулировок с точки зрения речевого этикета не вызывает сомнений.
Анализ работ позволил выявить и более серьезные проблемы в обучении этике и культуре коммуникации (коммуникативной грамотности): незнание или неумение школьников использовать приемы эффективной речевой коммуникации. Так, более 8 % сочинений содержат явно выраженную коммуникативную интенцию автора-школьника и попытку риторизации текста, проявляющуюся в заключительных призывах-обращениях к воображаемому читателю: «Люди! Любите друг друга, ведь надо дорожить теми, кто с вами рядом»; «Давайте будем заботиться о людях, пока они живы»; «Любите себя и не позволяйте управлять вами»; «В заключение хотелось бы дать совет людям, которые столкнулись с этой проблемой <…>»; «Я хочу закончить свое сочинение словами одного из героев мультфильма: “Ребята, давайте жить дружно!”»; «Любите Родину, несмотря ни на что!». С одной стороны, такие работы позволяют поставить и рассмотреть в рамках коммуникативной этики проблему «ощущения собеседника», особенности проявления «положительной» семантики вежливости. С другой стороны, они могут быть интерпретированы как примеры нарушения ролевых и иерархических отношений в коммуникации, несоблюдения принципа искренности, отсутствия в коммуникации необходимой «максимы такта».
По нашему мнению, именно такие случаи имеют в виду А. А. Гусейнов и Р. Г. Апресян, когда пишут: «Этика может разочаровать банальностью выводов. Она же может захватить возвышенностью идей. Все зависит от того, какими глазами смотреть на этику – видеть ли в ней сугубо умственную конструкцию или примерять ее на себя в качестве критерия оценки» [2005. С. 5]. Они отмечают, что пространство морали – это отношения между людьми, а золотое правило нравственности есть правило взаимности: «(не) поступай по отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». Кроме того, авторы подчеркивают: «Этику изучают не только для того, чтобы узнать, что такое добродетель, но для того, прежде всего, чтобы быть добродетельным. Цель этики – не знания, а поступки» [Там же]. Мы считаем, что успешность общения в различных сферах деятельности человека, социокоммуникативная ситуация в современной России в целом как раз и зависят от того, насколько результативно теоретические достижения в области коммуника-тивистики будут воплощены в практические методики.