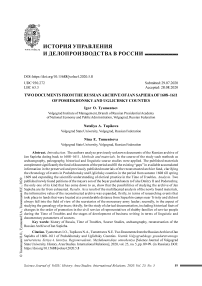Два документа русского архива Яна Сапеги 1608-1611 гг. из Пошехонского и Угличского уездов
Автор: Тюменцев Игорь Олегович, Тупикова Наталия Алексеевна, Тюменцева Нина Егоровна
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История управления и делопроизводства в России
Статья в выпуске: 5 т.25, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Авторы проанализировали неизвестные ранее документы русского архива Яна Сапеги 1608-1611 годов. Методы и материалы. Использованы методы археографии, палеографии, исторического и лингвистического источниковедения. Публикуемые материалы восполняют «лакуны» реконструированного архивного фонда, уточняя сведения о хронологии событий в Пошехонье и Угличском уезде осенью 1608 г. - весной 1609 г. и расширяя научные представления о делопроизводственной практике эпохи Смутного времени. Анализ. Два публикуемых новонайденных документа - челобитная городового сына боярского пошехонца Лжедмитрию II и подорожная кн. И.Ф. Мышинского - единственный такого рода акт из дошедших до нас материалов архива Я. Сапеги. Новые находки неизвестных до настоящего времени документов показывают, что возможности изучения архива Яна Сапеги далеко не исчерпаны. Результаты. В результате многоаспектного анализа новонайденных материалов расширена информативная ценность реконструированного архива, во-первых, в плане исследования событий, происходивших в землях, которые находились на значительном удалении от сапежинских лагерей у Троицы и не всегда попадали в поле зрения секретарей предводителя наемного войска; во-вторых, в аспекте изучения родословных князей; в-третьих, для исследования делопроизводственной документации, в том числе исторических фактов изменения порядка продвижения по государственной службе представителей захудалых родов служилых людей в период Смутного времени и этапов развития делового письма с точки зрения лингводокументоведческих параметров источников. Вклад авторов. И.О. Тюменцев дал первичную расшифровку документов, их историческое, археографическое и источниковедческое описание, Н.А. Тупикова уточнила прочтение и воспроизведение текстов, представила лингвоисточниковедческий и лингводокументоведческий анализ, Н.Е. Тюменцева соотнесла бумаги с разделообразующими фрагментами и ранее опубликованными документами архива, осуществила техническое оформление статьи.
История России, смутное время, источниковедение, археография, реконструкция русского архива яна сапеги
Короткий адрес: https://sciup.org/149131764
IDR: 149131764 | УДК: 930.272 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.5.8
Текст научной статьи Два документа русского архива Яна Сапеги 1608-1611 гг. из Пошехонского и Угличского уездов
DOI:
Цитирование. Тюменцев И. О., Тупикова Н. А., Тюменцева Н. Е. Два документа русского архива Яна Сапеги 1608–1611 гг. из Пошехонского и Угличского уездов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 5. – С. 89–99. – DOI:
Введение. Архивные данные, вводимые в научный оборот, позволяют существенно расширить и уточнить представления об исторической, историографической, источниковедческой базе исследований, направленных на дальнейшее изучение важнейших этапов развития страны. Этим обусловлена необходимость подробного рассмотрения новонай-денных материалов в составе русского архи- ва Яна Сапеги – единственного дошедшего до нас повстанческого документального комплекса Смуты начала XVII столетия. Деловые бумаги этого периода детализируют и «оживляют» исследуемые факты прошлого, дают убедительное представление о широте делопроизводства и устойчивых формах использования русского языка в различных жанрах, формировании норм и устойчивых приемов, которые соблюдались при составлении и оформлении того или иного текста, содержат сведения о специфике приказного изложения, тяготеющего к письменной разновидности языка, отличной от устной и не являющейся «зеркальным отражением» народно-разговорной стихии как органической основы общения, принятого в административной сфере.
Методы и материал. Архив Яна Петра Сапеги, одного из главных командиров наемного войска Лжедмитрия II, накапливался в походной канцелярии «воровского» полковника, а затем гетмана с лета 1608 г. по сентябрь 1611 г., потом был вывезен в Речь Посполитую [16]. В течение последующих четырех столетий документы оказались разделены по разным коллекциям, которые отложились в библиотеках и архивах России, Польши, Украины, Швеции.
В 2005 г. авторам этой публикации удалось составить и опубликовать подробный каталог выявленных и еще не найденных материалов «Русский архив Яна Сапеги 1608– 1611 гг.: опыт реконструкции и источниковедческого анализа» [13], который используется как своеобразный путеводитель для дальнейших целенаправленных разысканий. Результатом этой работы явилась подготовка первого издания «Русский архив Яна Сапеги 1608– 1611 гг. Тексты, переводы, комментарии» [14], в котором продемонстрирована перспективность избранной методики. Некоторые известные по разным источникам и упоминаемые в каталоге бумаги были отысканы и проанализированы в наших последующих публикациях [18]. За прошедшие после первого издания архива Я. Сапеги восемь лет в Польше, Швеции и на Украине были найдены новые и неучтенные в наших изданиях сапежинские документы [17], которые войдут во второе издание реконструированного архива, пополнив выделенные нами разделы и фонды.
Два публикуемых ниже документа (см. Приложение) принадлежат к выделенному нами «Разделу № 3»: Письма, отписки и челобитные из Замосковья и Поморья и включаются в два очень малочисленных «фонда»: 3.7. Челобитные и отписки служилых людей и духовенства из Пошехонья; 3.11. Письма, отписки и челобитные наемни- ков, воевод и жителей из Углича и Угличского уезда. Публикуемые материалы распределены нами по выделенным «разделам» и «фондам» опубликованного архива. Во избежание нарушения нумерации, данной источникам в первом издании, используется следующая методика: новонайденному документу присваивается номер предыдущего с добавлением буквенных литер «а», «б» и т. д., что позволяет сохранить и использовать прежнюю нумерацию. Исходя из этого, приводимые ниже документы получают помимо № 1 и № 2 соответственно № 263а и № 313а, которые обозначаются в круглых скобках. Благодаря этому исследователи получают возможность включить данные источники в основной массив опубликованных нами сапежинских бумаг и рассматривать их в составе комплекса.
Анализ:
-
I. Пошехонский уезд находился на значительном удалении от сапежинских лагерей у Троицы и редко попадал в поле зрения секретарей Я. Сапеги. Неслучайно в «Дневнике» Я. Сапеги этот город ни разу не упоминался [6]. До недавнего времени в сапежинском архиве нам был известен только один документ указанного фонда – челобитная игумена Андриановой пустыни Вассиана, в котором рассказывается о ситуации в городе во время властвования тушинцев (№ 264). Публикуемый новонайденный документ (№ 1) – Челобитная городового сына боярского И.В. Исакова Лжедмитрию II с просьбой освободить его деревеньку от сбора «царских кормов» по причине ее крайнего разорения отрядами белозерского и кирилловского ополчений – относится ко времени непродолжительного присутствия тушин-цев в Пошехонье, то есть к ноябрю 1608 года.
Примечательно, что пошехонец И.В. Исаков ссылался в своей челобитной царику (так современники называли Лжедмитрия II) на разорения от белозерских мужиков и кирилловских слуг, а не на декабрьские 1608 г. действия местных повстанцев и отрядов ополчения из Галича, Вологды и Устюжны Железнопольской [11]. Видимо, столкновения с белозерскими мужиками и кирилловскими слугами произошли в ноябре 1608 г., когда тушин-цы предприняли из Пошехонья наступление на Белоозеро и Кирилло-Белозерский монастырь.
По этой причине документ, на наш взгляд, можно датировать ноябрем 1608 года. Его ценность заключается в том, что в нем содержатся прямые указания на тушинские поборы и грабежи во владениях городового сына боярского. Иначе говоря, тушинцы не только захватывали царские дворцовые и черные села и деревни в «залог» до тех пор, пока монарх с ними не расплатится, что являлось обычной практикой в Речи Посполитой, но они также беззастенчиво грабили села и деревни служилых людей – главной опоры царской власти, в то время как их владельцы были вынуждены погибать на «воровской» службе [11]. Дополнительную информацию на этот счет можно почерпнуть из материалов угличского и ярославского фондов реконструированного нами сапежинского архива (№ 314, 337, 352).
Хотя лишь две челобитные, авторами которых являются пошехонцы, находятся в нашем распоряжении, данные источники тем не менее позволяют с большей точностью восстановить хронологию событий в этом уезде осенью 1608 г. – весной 1609 г. и являются важными свидетельствами того, что установленный в Пошехонье антинародный режим ничем не отличался от тушинских порядков в других уездах Замосковья и Поморья [10].
Челобитная сына боярского И.В. Исакова Лжедмитрию II относится к обширной группе текстов приказного делопроизводства, в жанровом отношении объединяемых известной общностью тематики и единообразного оформления. Стандартный характер имеют вступление и заключение (начальная и заключительная клаузулы), для основной части характерна определенная свобода изложения. Обращение к Лжедмитрию II начинается с устойчивых формул титулования «Царю государю и великому князю Дмитрею Ивано-вичю всеа Русии», челобитья «биет челом», трафаретного самоуничижения «холоп госу-дарьв» и с указания челобитчика «Ивашка Василев сынъ Исаков», включающего уменьшительную форму имени уничижительной направленности. В основной части выделяются три смысловых отрезка: описание обстоятельств дела (По твоему, государь, госу-дарьскому указу велена, государь, в Пеше-хоне на тебе, на государя, корм збирати); собственно просьба, где выделяются обраще- ние с титулованием «царской особы» (Мило-сердаи, государь, царь и великии князь Дмитреи Ивановичь всеа Русии, смилуися, пожалуи), уничижение челобитчика (меня, холопа своево, с меня холопа своего) и изложение собственно просьбы (не вели взяти корму з деревни Милева да деревни против ея). Завершается основная часть формулированием основания просьбы с элементами скрытой жалобы на произвол отрядов белозерского и кирилловского ополчений: я холоп твои государевъ, розорен без остатку от твоих государевых изменников от белозерских мужиков от кириловских слуг, с выражением верноподданнического самоуничижения: чтоб я, холоп твои в конец не погиб и твоеи бы царьскои службы впред не оста[ви]л. Заключение представляет стандартизированную формулу, выраженную побудительной конструкцией с глаголами смиловатися, по-жаловати после титулования «самозванца»: «Царь государь, смилуися, пожалуи». Таким образом, композиционно-содержательная характеристика челобитной, целевая и модальная направленность отдельных ее клаузул обнаруживают зависимость специфики источника от назначения документа, который раскрывает произвол сапежинцев во владениях сынов боярских, служивших «воровскому» режиму.
Лингвоисточниковедческий анализ показывает, что текст написан четким неровным почерком. Правописная выучка писавшего проявилась в различении «е» и «ять», противопоставлении «ук» и «у» как самостоятельных букв, в реализации графического варианта новой для данной эпохи буквы «я», связанного с бывшей «а-йотированной», в дифференциации «ерь» и «еръ» по наклону мачты («ерь» – наклон мачты вправо: царь, государь; «еръ» – наклон мачты прямо: сынъ или слабо влево: государевъ); в употреблении выносного «р-лежачего» без покрытия [15, с. 175]. Имеются также черты индивидуального почерка, в частности, разные варианты литеры «а»: ее начертание то ближе к греческому графическому варианту (указу, Исаков, велена), то напоминает один из графических вариантов другой буквы – «юс-малый» (всеа, збирати) [3, с. 46]; выделяются написание «ы» с растяжкой (государевых, службы, бы), разные начерки «е» и др. В целом можно сказать, что, несмотря на соблюдение свойственного формуляру челобитной стандарта и регламентированного употребления приказных формул, изложение сути дела отличается свободной последовательностью смысловых частей и отсутствием ярких региональных речевых особенностей.
-
II. Угличский уезд гораздо чаще попадал в поле зрения секретарей Яна Сапеги, о чем говорят упоминания Углича и его округи в «Дневнике» командира наемников, а также четыре ранее найденные отписки разных лиц тушинскому гетману и одно перехваченное тушинцами донесение земских воевод царю В. Шуйскому. В «Дневнике» Я. Сапеги упоминаются, по крайней мере, еще два послания, которые пока не отысканы. Имеются в виду повинная грамота угличан Лжедмитрию II (29 октября 1608 г.) и письмо полковника Я. Микулинского Сапеге (30 июня 1609 г.) о взятии им Углича [6, с. 72–73, 136–137].
Приводимый в данной статье второй документ будет являться шестым из опубликованных нами в составе указанного архивного «фонда» (№ 2/313а). Он представляет собой подорожную кн. И.Ф. Мышинского – единственный такого рода акт из выявленных в составе архива Я.П. Сапеги. Выдавший ее – глава местной тушинской администрации пан Ян Очковский (Осковский) – был хорошо известен как доверенный человек гетмана Я. Сапеги. Лицо, получившее право на беспрепятственный проезд от Углича до Троице-Сер-гиева монастыря, обозначено в документе как «князь Мышинский».
Появление в официальном документе сапежинской канцелярии имени князя Ивана Федоровича Мышинского требует дополнительного комментария. В делопроизводственной документации известны рязанские помещики Мышенковы и князья Мышецкие [8]. Судя по всему, в интересующем нас тексте речь идет о представителе рода князей Мы-шецких, которые по поздним родословным преданиям считались Рюриковичами и возводились то к князьям Черниговским (одной из ветвей князей Тарусских, имевших владения по реке Мышаге в верховьях Оки), то к князьям Смоленским. Однако в родословных книгах и росписях XV–XVI вв. князья Мышец- кие отсутствуют [2]. Не подали они своей родословной росписи и в конце XVII в. в Палату Родословных дел в связи с отменой местничества. Родословные росписи этих князей появляются только в конце XVIII в., поэтому их достоверность вызывает серьезные сомнения.
Обращение к делопроизводственной документации Разрядного приказа (боярским спискам, разрядным книгам) обнаруживает, что князья Мышецкие не появлялись в Государевом дворе до Смуты и служили городовыми детьми боярскими [1]. Их возвышение началось как раз в тушинский период Смуты и достигло апогея при первых Романовых, когда они попали в Государев двор. Участие в церковном расколе на стороне староверов привело к их падению и, видимо, явилось причиной того, что их родословная не была подана, как сказано нами выше, в палату Родословных дел [2; 5].
Таким образом, обнаруженные исторические факты и историографические сведения дают основание считать, что публикуемая подорожная является ярким документальным свидетельством того, что Смута, сокрушившая сложившийся порядок государственной службы на Руси, открыла карьерные возможности для самых захудалых родов служилых людей, которые в буквальном смысле слова могли попасть «из грязи в князи». Сам документ дает толчок дальнейшему историческому изучению родословной князей Мы-шецких (или Мышинских) и может быть отнесен к ценным источниковым материалам.
В лингводокументоведческом плане текст представляет собой официальную бумагу – подорожную грамоту, удостоверяющую право на беспрепятственный и обеспеченный всем необходимым проезд указанному лицу (см.: подорожная – «проездное свидетельство» [12, с. 518]; подорожная – «документ для проезда куда-л.». Словарь XI– XVII вв.: подорожная и подорожна, подорожная грамота [4, с.112]). Будучи ярким примером приказного делопроизводства начала XVII в., документ содержит приметы правописной выучки писца-профессионала, соблюдавшего сложившиеся правила приказного изложения, и включает черты индивидуального письма. Лингвоисточниковедческий анализ показывает, что текст написан хорошо читаемым крупным четким почерком. Обращают на себя внимание часто воспроизводимые в памятниках письменности начерки букв, которые становятся не только принадлежностью почерка, но и самой системы графики данного времени. Так, начертания разных букв, которые в скорописи могут совпадать, в индивидуальном почерке данного писца четко противопоставлены: это касается, например, устойчивых различий написания «и» и «е», «н» и «и», «н» и «к», «д» и «в», «б» и «ять», «б» и «еръ», «г» и «ч», «л» и «ч» и др. Писец последовательно использовал «ук» и «у» как самостоятельные буквы, которые по происхождению являются графическими вариантами диграфа «оу»; в написании прослеживается основной различительный признак буквы «еръ» (отворот мачты влево) и соотнесенность «еръ» и «ерь» по высоте: «еръ» неизменно сохраняет высокую мачту, а «ерь» – равную высоте низких букв; при начертании «ерь» допускается несколько вариантов [3, с. 50–51]: в три приема (когда петля образована пересечением мачты, нижней горизонтали и дуги, соединяющей середину мачты с серединой горизонтали), в два приема (без соединения мачты с горизонталью) и в один прием (когда петля образована с помощью мачты и дуги, близко к современному «ь»). В рукописи последовательно реализуется графический вариант новой для данной эпохи буквы «я», развившийся в скорописи из «а-йотированного» [3, с. 46]; выделяется фигурное начертание прописной буквы «к». Соблюдение писцом сложившихся правописных норм выражалось также в следовании такому правилу скорописного письма, как выносное «р-лежачее» без покрытия, что освобождает некоторые буквы от определенного элемента их начертания и знаменует определенный этап истории выносных букв. Ряд перечисленных особенностей, которые характерны, по мнению исследователей, для переходного периода от одной системы графем к другой [3, с. 57], являются ценным свидетельством фиксации в данном источнике динамики языковых процессов и различных этапов эволюции системы русского делового письма.
Структурно-содержательная характеристика подорожной грамоты позволяет выделить в формуляре документа начальный и ко- нечный протокол, основную часть. Зачин содержит дату выдачи: Лета 7117 ноября в 27 день, основание выдачи: по государеву цареву и великаго князя Дмитрея Ивано-вичя всеа Русии указу, титулование лица, поручившего выдачу документа: его мости Петръ Павлович Сопеги старосты Киевс-каго и Усвятцкаго и Керепетцкаг[o], название доверенного лица, выдавшего подорожную и удостоверившего права и условия проезда: пан Ян Очьковски. Целевая установка грамоты реализуется в основной части текста с помощью субъектного, предикатного, объектного и обстоятельственных компонентов, тема-рематической организации высказывания. В препозицию выносится тема, определяющая жанр документа, выражающая маршрут следования от начального до конечного пункта (От Углечя до Троицы), а также указывающая на остановки (ямы), где обязаны были в качестве повинности предоставлять все необходимое для нужд проезжающего (в XV–XVII вв. ям от тюркск. jam – «селение» [12, с. 804]). Рема – предписание – выражена предикатным компонентом – глагольной формой прошедшего времени в составе придаточного оборота (чтоб есте давали), а также субъектными, объектными, обстоятельственными распространителями. Субъектом предписания выступают лица, которым надлежало обеспечивать беспрепятственный проезд: ямъщиком; всем людемъ; че, хто ни буди; объектом предписания является лицо – обладатель подорожной грамоты (Иван Федорович Мышинский). Важную структурносодержательную роль в рематической части предписания, удостоверявшего право на беспрепятственный проезд и предоставление всего необходимого указанному лицу, играют обстоятельственные уточнители с семантикой пространства (везде), времени (не издержав ни чясу), образа действия (безо мены) и объектные распространители со значением неизменных в количественно-качественном отношении величин (девет подвод с санми, с хомуты, з проводники). Финальная часть подорожной представляет собой трафаретную фразу рукоприкладства с использованием устойчивого оборота заверения, при написании которого встретились типичные ошибки, свойственные писцам, когда их внимание опере- жало процесс письма: наблюдается наложение двух типов ненамеренных (бессознательных) искажений [9, с. 60–62, 74–77]: ошибки письма (пропуск слога «ри») и ошибки «внутреннего диктанта» (ассимиляция, уподобление буквы от стоящей в следующем слоге – перескок с буквы «о» в слоге «ло» на другую – «и», находящуюся в последующем слоге «жи»): К сеи подорожнои пан Ян Очьков-скьи печят свою п[ри]лижил. Скрепа (рукоприкладство) доверенного лица, выдавшего подорожную, дана по-польски (Jan Oskowsky) с указанием на собственноручную подпись заверителя (reką swą).
Несмотря на допущенные единичные искажения, стоит сказать о высокой выучке писца, составившего официальный документ по всем правилам жанра. В тексте нет диалектных вкраплений, свойственных московскому говору; встретились лишь единичные произносительные черты устной речи: грамматическая форма на -у Род. п. сущ. мужского рода ( ни чясу ) и указательное местоимение те , в польской огласовке данное как « че » (сравни по-польски: ci, cie ), вероятно, воспроизведенное «со слуха» под влиянием родной речи либо речи заверителя, выдавшего подорожную. Возможно, Очковский, переметнувшийся к Сапеге, был служилым иноземцем на царской службе, как и писец в тушинской администрации, работавший под началом Очковского.
Публикация источников при воспроизведении рукописей учитывает сложившиеся правила. Сплошной текст разделяется нами на слова, которые передаются буква в букву, сокращенные написания слов раскрываются, выносные буквы вводятся в строку в круглых скобках, пропущенные элементы приводятся в квадратных скобках и включаются в соответствии с правилами эдиционного восполнения, предопределяемого и «подсказываемого» написанным [7, с. 15]. Воспроизведение осуществляется современной графикой и буквами старой письменности «ерь» и «еръ»; имена собственные пишутся с прописной буквы; для облегчения восприятия тек- стов используется современная пунктуация, деление на отдельные смысловые отрезки-предложения (фразы).
Результаты. Новые находки восполняют существующие лакуны в культурно-историческом, источниковедческом, археографическом и палеографическом аспектах.
Обнаруженные исторические факты дают основание с большей точностью восстановить хронологию событий на всей территории, охваченной Смутой. Содержание публикуемых документов, с одной стороны, позволяет показать истинное «лицо» тушинских властей, не гнушавшихся поборами и грабежами во владениях сынов боярских, которые выступали главной опорой царской власти, служили «воровскому» режиму и погибали на «воровской» службе; с другой стороны, выявленные сведения обнаруживают скрытые «пружины» тех процессов, которые в Смутное время привели к сокрушению сложившихся порядков государственной службы на Руси и открыли новые карьерные возможности для захудалых родов.
Рассмотренные тексты в лингвоисточниковедческом плане характеризуются как свидетельства сложившихся правил и практики делового письма на Руси начала XVII в., демонстрирующие уровень индивидуальной писцовой выучки и приказного делопроизводства. Выделенные графические и языковые особенности дают основания уточнить переходные и пограничные явления в развитии русской письменной традиции, становлении жанрового формуляра и формировании состава приказных формул, что определяло тенденции регламентированного употребления языковых средств и направления стандартизации реквизитной структуры документов в преднациональный период.
Проанализированный материал показывает, что возможности в изучении русского архива Яна Сапеги далеко не исчерпаны, уже опубликованные и вновь найденные источники требуют дополнительного рассмотрения на основе многоаспектной интерпретации данных.
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1 (263а)
1608 год ноябрь. – Челобитная сына боярского пошехонца И.В. Исакова Лжедмитрию II с просьбой не брать кормов с его деревни, разоренной изменниками
Ц(а)рю г(осу)д(а)рю и великому кн(я)зю Дмитрею Ивановичю всеа Руси(и) бие(т) чело(м) хо-ло(п) г(осу)д(а)рьв пешехоне(ц) Ива(ш)ка Васи(л)е(в) с(ы)нъ Исако(в). По твоему, г(осу)д(а)рь, г(осуда)рьскому указу велена, г(осу)д(а)рь, в Пешехо(н)е на тебе, на г(осу)д(а)ря, ко(р)м збира-ти. Ми(лосе)рда(и), г(осу)д(а)рь, ц(а)рь и велики(и) к(н)язь Дмитре(и) Ивановичь всеа Руси(и), смилу(и)ся, пожалу(и), меня, холопа своево, не вели, г(осу)д(а)рь, с меня холопа свое(г) взяти ко(р)му з дере(в)ни Милева да дере(в)ни против ея два(т)ца(т) че(т)ве(р)тое (с-?) ко[и-?]то сохи, что я холо(п) тво(и) г(осу)д(а)р(е)въ, розоре(н) бе(з) остатку о(т) твои(х) г(осу)д(а)р(е)вы(х) и(з)мен(н)ико(в) о(т) белозе(р)ски(х) мужико(в) о(т) кирило(в)ски(х) слу(г), что(б) я, холо(п) тво(и) в коне(ц) не поги(б) и твое(и) бы ц(а)рьско(и) слу(ж)бы впре(д) не оста[ви](л). Ц(а)рь г(осу)д(а)рь, смилу(и)ся, пожалуи!
Оригинал написан на 0,5 става гусиным пером коричневыми чернилами четким почерком. Был свернут свитком.
Stokholm. Riksarkivet. Ryskabrev. E 8610. РЕА 50.
№ 2 (313а)
1608 года 27 ноября (7 декабря) – Подорожная пана Я. Очковского (Осковского) князю И.Ф. Мышецкому (Мышинскому) от Углича до Троице-Сергиева монастыря
Лета 7117 ноя(б)ря в 27 (днь) по г(осу)д(а)р(е)ву ц(а)р(е)ву и великаго кн(я)зя Дмитрея Ивановичя всеа Руси(и) указу его мо(с)ти Петръ Па(в)лови(ч) Сопеги старо(с)ты Кие(в)скаго и Усвя(т)цкаго и Керепе(т)цка(г) па(н) Я(н) Очько(в)ски. О(т) Углечя до Троицы по ямо(м) ямъщи[ко](м), а где ямо(в) не(т) и все(м) лю(де)мъ безо мены че, хто ни бу(ди), что(б) есте давали кн(я)зю Ивану Федоровичю Мыши(н)скому деве(т) по(д)во(д) с са(н)ми и с хомуты и (з) прово(д)ники ве(з)де не и(з)де(р)жа(в) ни чясу. К сеи подоро(ж)нои па(н) Я(н) Очько(в)скьи печя(т) свою п[ри]лижи(л). Jan Oskowsky reką swą .
Оригинал. Документ написан на 0,5 става скорописью коричневыми чернилами четким почерком. Левое поле надорвано, но текст не пострадал. Было свернуто свитком. Адреса нет. Подпись и скрепа по-польски другим почерком.
Stokholm. Riksarkivet. Ryskabrev. E 8610. РЕА 1 (1-2).
Список литературы Два документа русского архива Яна Сапеги 1608-1611 гг. из Пошехонского и Угличского уездов
- Акты служилых землевладельцев XV - начала XVII века. В 4 т. Т. 2-4 / сост. А. В. Антонов. -Т. 2. - М. : Памятники исторической мысли, 1998. -608 с. ; Т. 3. - М. : Древлехранилище, 2002. - 680 с. ; Т. 4. - М. : Древлехранилище, 2008. - 632 с.
- Антонов, А. В. Родословные росписи конца XVII века / А. В. Антонов. - М. : Археографический центр, 1996. - 416 с.
- Бахтурина, Р. В. Воспроизведение скорописного текста и учет графических вариантов / Р. В. Бах-турина // Лингвистическое источниковедение. - М. : АН СССР, 1963. - С. 35-57.
- Большой академический словарь русского языка. Т. 18 / гл. ред. А. С. Герд. - М. ; СПб. : Наука, 2011. - 773 с.
- Боярский список 1610-1611 гг. / публ. В. Н. Сторожева // Чтения в Обществе истории и древностей российских. - 1909. - Кн. 3. - Отд. 3. - С. 73-103.
- Дневник Яна Петра Сапеги (1608-1611 гг.) / сост. И. О. Тюменцев, М. Яницкий, Н. А. Тупикова, А. Б. Плотников. - М. ; Варшава : Древлехранилище, 2012. - 456 с. - (Памятники истории Восточной Европы. Источники ХУ-ХУП вв. ; т. 9).
- Котков, С. И. О совместном издании древнерусских скорописных памятников лингвистами и историками / С. И. Котков // Лингвистическое источниковедение. - М. : АН СССР, 1963. - С. 5-23.
- Лебединский, М. Ю. Хроника князей Мы-шецких (от предков Рюрика до наших дней). Версия 1998 / М. Ю. Лебединский. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.lib.ru/HISTORY/ LEBEDINSKIJ/myshec.txt (дата обращения: 03.08.2020). - Загл. с экрана.
- Лихачев, Д. С. Текстология / Д. С. Лихачев ; отв. ред. акад. Г. В. Степанов. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Л. : Наука, 1983. - 639 с.
- Павлов, А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове 1584-1605 гг. / А. П. Павлов. - СПб. : Наука, 1992. - 280 с.
- Памятники истории русского служилого сословия / сост. А. В. Антонов. - М. : Древлехранилище, 2011. - 556 с.
- Рогожникова, Р. П. Словарь устаревших слов русского языка / Р. П. Рогожникова, Т. С. Карская. -М. : Дрофа, 2005. - 828 с.
- Русский архив Яна Сапеги 1608-1611 годов: опыт реконструкции и источниковедческого анализа / авт. коллектив: И. О. Тюменцев (рук.) [и др.] ; под ред. проф. О. В. Иншакова. - Волгоград : Изд-во ВолГУ 2005. - 340 с.
- Русский архив Яна Сапеги 1608-1611 годов. Тексты, переводы, комментарии / под ред. И. О. Тюменцева. - Волгоград : Изд-во Волгогр. фил. РАНХиГС, 2012. - 688 с.
- Творогов, О. В. О выносных буквах в русских рукописях ХУ-ХУП веков / О. В. Творогов // Исследования источников по истории русского языка и письменности. - М. : Наука, 1966. - С. 162-175.
- Тюменцев, И. О. Смутное время в России в начале XVII ст.: движение Лжедмитрия II / И. О. Тюменцев. - М. : Наука, 2008. - 688 с.
- Тюменцев, И. О. Документы русского архива Яна Сапеги: находки 2013-2018 годов / И. О. Тюменцев, Н. А. Тупикова, Н. Е. Тюменцева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. - 2019. - Т. 24, №» 2. - С. 44-54. - DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu4.2019.2.5.
- Тюменцев, И. О. Новые письма и челобитные Смутного времени из Троице-Сергиева монастыря и его вотчин / И. О. Тюменцев, Н. А. Тупико-ва // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. - 2018. - Т. 63, вып. 3. - С. 935-948. - DOI: https://doi.org/10.21638/11701/spbu02.2018.317.