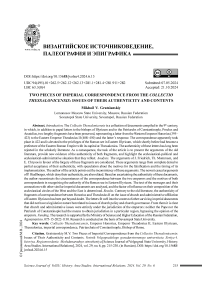Два императорских письма из "Фессалоникского собрания": проблемы подлинности и содержания
Автор: Грацианский М.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Византийское источниковедение, палеография и эпиграфика
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. «Фессалоникское собрание» - составленная в IX в. подборка документов, в которой помимо папских посланий к епископам Иллирика и к константинопольским патриархам Проклу и Анатолию сохранилось два пространных фрагмента, представляющих собой письмо западного императора Гонория (395-423) восточному императору Феодосию II (408-450) и ответ последнего. Переписка состоялась, по-видимому, в 422 г. и посвящена привилегиям римской кафедры в Восточном Иллирике, который незадолго до того стал префектурой Восточной Римской империи со столицей в Фессалонике. Подлинность этих писем долгое время отвергалась в научной литературе. Как следствие, задачей статьи является представление аргументов старой литературы, приведение новых доказательств подлинности обоих фрагментов и освещение той церковно-политической и церковно-административной ситуации, которую они отражают. Анализ. Рассматриваются аргументы И. Фридриха, Т. Моммзена и Е. Хрисоса в пользу подложности данных фрагментов. Эти аргументы варьируются от полного отрицания к частичному признанию их подлинности с предположениями о мотивах фальсификации и времени ее осуществления. Автором статьи последовательно указывается на несостоятельность этих аргументов. В том числе опровергаются и новейшие, сделанные походя рассуждения П. Ридльбергера, отрицающие подлинность фрагментов. На основе констатации подлинности документов автором дается реконструкция обстоятельств переписки двух императоров и мотивов обоих корреспондентов в деле признания авторитета римской кафедры в Восточном Иллирике. Анализируется текст посланий, их связи с другими аналогичными императорскими документами, определяется фактор влияния на их составление церковных кругов Запада и Востока.
«фессалоникское собрание», император гонорий, император феодосий ii, восточный иллирик, фессалоника, императорская переписка, константинопольский патриархат, римский епископ
Короткий адрес: https://sciup.org/149147544
IDR: 149147544 | УДК: 94(495).01+262.5+262.12+262.13+281.1+281.4+281.911+282 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.15
Текст научной статьи Два императорских письма из "Фессалоникского собрания": проблемы подлинности и содержания
DOI:
Цитирование. Грацианский М. В. Два императорских письма из «Фессалоникского cобрания»: проблемы подлинности и содержания // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 6. – С. 215–230. – DOI: jvolsu4.2024.6.15
Введение. «Фессалоникское собрание» – подборка из 27 писем, посвященных в абсолютном своем большинстве иллюстрации политики римской кафедры в отношении Восточного Иллирика от времени папы Дамаса (366–384) до Льва Великого (440–461) 1. Эта подборка писем присоединена к актам собрания римского клира, состоявшегося в ян- варе 531 г. под председательством папы Бонифация II (530–532) [5; 42; 46; 41; 21; 23, S. 101–106, 511–514; 25; 32; 10, p. 270–282; 30; 1; 3]. Среди этих писем находятся также два пространных фрагмента посланий, представляющих собой переписку между западноримским императором Гонорием (395–423) и восточно-римским Феодосием II (408–450).
Эти письма посвящены обсуждению вопроса о прерогативах римской кафедры в пределах Восточного Иллирика – территории, юрисдикцию восточного двора над которой западный двор оспаривал [11, p. 106–173; 27, p. 60–66; 40, p. 189–195].
К 20-м гг. V в. территория Восточного Иллирика в составе двух диоцезов Дакии и Македонии была административно оформлена как префектура Восточной Римской империи, однако окончательно ее положение было урегулировано западным и восточным двором, предположительно, лишь в 437 г. [39]. Столицей вновь созданной префектуры стал город Фессалоника, епископы которого вместе с прочим епископатом региона традиционно в своей церковной политике ориентировались на западные центры – Медиолан и Рим. «Фессалоникское собрание» фиксирует для нас дату первой попытки создания особого церковноадминистративного округа на территории двух диоцезов, первенствующим епископом которого должен был стать фессалоникский митрополит, который, в свою очередь, должен был признать определенную зависимость от римского епископа – 17 июня 412 года. Эта дата, так же, как и форма подчинения Восточного Иллирика верховной юрисдикции римского папы, была прописана в послании папы Иннокентия I (402–418) к Руфу Фессалоникскому и впоследствии многократно подтверждалась последующими папами, письма которых также сохранило для нас главным образом «Фессалоникское собрание».
В 421 г. император Феодосий II своим эдиктом установил церковную юрисдикцию над Иллириком константинопольского патриарха и его Собора, однако в результате состоявшейся в 422 г. переписки со своим западным коллегой Гонорием изменил церковно-административный статус региона, фактически признав право юрисдикции в нем римского епископа.
Целью настоящей работы является исследование вопроса подлинности фрагментов письма Гонория и ответного послания Феодосия 2, а также изучение их содержания на предмет выяснения того, чем руководствовались оба императора, предоставляя римскому епископу право юрисдикции в регионе, никогда не подчинявшемуся в церковном отношении Риму.
Методы. Работа основана на применении историко-критического метода обработки данных текста источников, используемых в оригинале на латинском языке.
Анализ. 14 июля 421 г. на Востоке был опубликован эдикт Феодосия II на имя префекта претория Иллирика Филиппа, который впоследствии был включен в Кодекс этого императора, а затем воспроизведен в Кодексе Юстиниана. Приведем его текст в нашем переводе: «Отменяя всякое нововведение, мы предписываем, чтобы во всех провинциях Иллирика блюлась древность и старинные церковные каноны, которые удерживались вплоть доныне. Потому, если возникнет какое-либо сомнение, да будет необходимо предоставить его священническому собранию и святому суду не без ведома достопочтеннейшего мужа, предстоятеля священного закона константинопольского града, который радуется прерогативам старого Рима»3.
Данный закон, принятый в патриаршество Аттика Константинопольского (406–425/426) 4, очевидным образом лежал в русле укрепления власти столичного епископа на прилегающих территориях, причем это укрепление происходило посредством императорского законодательства в той же мере, в какой создание и укрепление юрисдикции римского епископа в Италии и Галлии происходило на основе законодательства западных императоров. Восточное и западное императорское законодательство осуществлялось по представлениям священства 5, в двух примечательных случаях обращавшегося к императорам с просьбой об «увеличении чести» епископов Рима и Константинополя. В случае Рима это имело место в 378 г., когда с прошением к императорам обратились члены Римского собора, а в случае Константинополя это было 3-е правило Константинопольского собора 381 г., даровавшее восточной столице как Новому Риму 6 «преимущества чести» после римского епископа в соответствии с прошением епископского собрания, представлявшего практически все регионы Восточной Римской империи. Как следствие, в 378/379 г. папе Дамасу было дано личное пожалование вершить церковный суд в Италии и Галлии.
С Константинополем дело обстоит несколько сложнее 7, однако при Иоанне Златоу- сте (398–404) мы имеем многочисленные факты управления константинопольским предстоятелем церковными делами Малой Азии, а применительно к Аттику мы уже имеем точные сведения об императорском законодательстве в отношении прерогатив столичного епископа: церковный историк Сократ Схоластик сообщает об императорском указе, который наделял Аттика личными полномочиями в отношении утверждения епископских кандидатур 8. Таким образом, у нас имеются надежные свидетельства того, что в годы, последующие за делегированием папой Иннокентием полномочий по церковному управлению Иллириком Руфу Фессалоникскому в 412 г., императором Феодосием начинает законодательно закрепляться и поощряться процесс консолидации под властью константинопольской кафедры регионов, не входивших в юрисдикцию александрийской и антиохийской кафедр, прерванный кризисом вокруг Иоанна Златоуста [15].
Как можно удостовериться, Феодосий прежде всего требует соблюдения в Иллири-ке «древности и старинных церковных канонов». Предписание имеет общий характер, и очевидно, что речь идет о соблюдении всей совокупности принятых канонов, прежде всего апостольских и «канонов святых отцов», то есть никейских. Очевидно, что по умолчанию этот канонический корпус включает каноны относительно провинциального церковного устройства во главе с митрополитами, соблюдения прав митрополитов в деле рукоположения епископов и возглавления провинциальных Соборов. Поскольку вопрос о прерогативах митрополитов и решении вопросов на сверхпровинциальном уровне был в тот момент основным как на Востоке, так и на Западе, то очевидно, что под следованием канонам понималось именно соблюдение прав митрополитов и их Соборов при отсутствии вмешательства со стороны посторонних кафедр. Как апелляционная инстанция предлагался Константинополь, однако никакой проблемы в этом не было, поскольку столица в силу своей географической близости являлась совершенно естественным центром решения сверхпровинциальных дел: Фессалоника была несколько ближе, но и Константинополь не был чрезмерно отдален. Кроме того, как место пребыва- ния императорской власти столица была более предпочтительным центром для решения всего спектра возникающих вопросов: для епископов как представителей городов, часто выполнявших миссии вполне светского характера, возможность обратиться к высшей власти или осуществить в столице «лоббирование» через влиятельных людей была важным фактором.
Также, как можно видеть, императорский указ создавал в Иллирике вполне вольготный режим для существования митрополий, поскольку не наделял константинопольского предстоятеля и столичный Собор какими-либо атрибутами власти над Церквами иллирийских провинций: вмешательства в дела митрополий, права рукоположений и обжалования решений провинциальных Соборов со стороны константинопольского архиепископа указ не предусматривает. Поскольку в это же время со стороны Запада запускается процесс институционализации церковного контроля над Иллириком, то вполне естественно, что в него через некоторое время напрямую вмешивается и западный император, поскольку очевидно, что без его помощи сохранение Илли-рика в церковно-политической орбите Запада в сложившихся обстоятельствах не имело перспективы.
Прежде чем приступить далее к анализу факта обмена письмами между Гонорием и Феодосием, представляется необходимым дать краткий историографический очерк дискуссии о подлинности содержащихся в «Фессалоникском собрании» фрагментов переписки между августейшими коллегами. Необходимость вызвана тем, что начало научно-критического изучения как «Фессалоникского собрания» в целом, так и фрагментов переписки императоров было положено заявлением об их неподлинности, сделанным немецким ученым Иоганном Фридрихом [19].
И. Фридрих отмечал тот факт, что эдикт Феодосия от 421 г. не был отменен после переписки Гонория и Феодосия в 422 г. и в дальнейшем фигурирует как в Кодексе Феодосия, так и Юстиниана. Письма папы Бонифация, составленные после императорской переписки и как бы по ее следам, никак не упоминают ни ее, ни предшествующий эдикт Феодосия. По мнению Фридриха, составление этих писем следует считать фальсификатом VI в. времен папы Агапита (535–536), нацеленным на то, чтобы повлиять на политику Юстиниана в отношении папства, которое во время возобновления отношений с Востоком после «Феликианской схизмы» в 519 г. попыталось восстановить свое влияние в Иллирике. Подозрительным Фридриху также кажется в рескрипте Феодосия Гонорию упоминание во множественном числе «префектов Иллирика», в то время как префект должен был быть один, поскольку Западный Иллирик не относился к Восточной империи: по мнению Фридриха, это соответствовало реалиям юстинианова времени, когда после создания в Иллирике города Первой Юстинианы в ней был поставлен отдельный префект. Дополнительно Фридрих отмечает, что если в письме папы Николая I (858–867) есть сведения, позволяющие судить о том, что ему были известны письма в Иллирик римских пап, то об императорских письмах он в нем не упоминает [19, S. 860–861, 884–886].
Наблюдения И. Фридриха поддержал Теодор Моммзен [28]. Признавая в целом вывод Фридриха о наличии в «Фессалоникском собрании» поддельных документов, великий германский антиковед специально высказал устные аргументы в поддержку тезиса о не-подлинности императорских писем. По его мнению, эти экземпляры могут считаться подложными по формальным основаниям: 1) они противоречат принципу совместного издания законов императорами в обеих частях империи, в силу чего отмена эдикта 421 г. должна была быть произведена совместным законом обоих императоров; 2) переписка между императорами за пределами законодательных актов не зафиксирована источниками; единственным примером, по Моммзену, может считаться письмо Феодосия II к Валентиниа-ну III по поводу публикации на Западе одного эдикта, изданного для Востока (Theod. II.2.1); изданный в удовлетворение этой просьбы Валентиниана III эдикт уже по всей форме содержит упоминание обоих императоров (nov. Val. III. 25); 3) в силу этого письмо Гонория также должно было быть опубликовано, а рескрипт Феодосия должен был быть оформлен в виде указа от имени двух императоров.
По мнению Моммзена, этих формальных замечаний достаточно, чтобы считать пись- ма императоров поддельными. Что касается цели фальсификатора, то едва ли она состояла в том, чтобы противодействовать включению указа Феодосия от 421 г. в Кодекс Юстиниана, поскольку в этом случае фальсификация была бы слишком заметной. Как следствие, в качестве времени ее создания Моммзен предлагает считать период до издания юстинианова Кодекса или время, когда тот еще не получил распространения в Италии. Однако он признает, что для времени Юстиниана в целом подложность документов была слишком «прозрачной» (durchsichtig).
В дальнейшей историографии мнения Фридриха и Моммзена не получили поддержки. В особенности католическая историография приложила усилия к тому, чтобы однозначно заявить о подлинности всего собрания, однако наиболее аргументировано против мнений Фридриха выступил русский исследователь, впоследствии протоиерей Петр Иванович Лепорский в своей монографии [5].
Несмотря на утвердившийся с определенного времени консенсус относительно подлинности частей «Фессалоникского собрания», в 1971 г. греческий исследователь Евангелос Хрисос вновь обратился к этому вопросу и уже с других позиций попытался продемонстрировать правоту мнений Фридриха и Моммзена относительно императорских писем в составе собрания [13] 9.
Что касается краткой работы Е. Хрисо-са, то он, в целом присоединяясь к мнениям Фридриха и Моммзена, намеревается уточнить их тезисы и предложить собственные соображения. Прежде всего, он считает подлинным текст письма Гонория к Феодосию в составе «Фессалоникского собрания» по причине наличия в нем важного пересечения с письмом папы Бонифация, не находящимся в составе «Собрания» и отмеченного в свое время Эрихом Каспаром [13, S. 244]. При этом он полагает, что рескрипт Феодосия можно вполне считать подложным на основе аргументов, предложенных главным образом Моммзеном. Среди высказываний Фридриха Хрисос выделяет замечание относительно упоминания Феодосием префектов претория Ил-лирика во множественном числе [13, S. 245].
Затем Е. Хрисос переходит к изложению собственных аргументов. Их два. Во-первых, исследователь считает невозможным использование римским императором первой четверти V в. латинского слова «regnum» («царство») применительно к описанию собственной власти. Констатируя, что использование греческого эквивалента этого слова (PaaiZria) было совершенно нормальным уже в это время и даже ранее, он утверждает, что в латинском узусе оно было недопустимо и не встречается в источниках вплоть до юстинианова времени: «...однако слово regnum на всем протяжении истории Римской республики и ее фиктивного продолжения в императорское время было настолько обесценено, что ни в коем случае не могло быть использовано в императорском документе»10 ранее утверждения в Италии остготского королевства: первое упоминание слова «regnum» применительно к императорской власти Хрисос фиксирует в обращении папы Иоанна к императору Юстиниану в 534 году.
Вторым аргументом Е. Хрисоса является анахронистическое, по его мнению, использование в рескрипте Феодосия понятия «sanctissima urbs» применительно к Риму. Вполне уместным он считает такой эпитет в христианском Средневековье, которое он отсчитывает на Западе с VI в., поскольку именно тогда этот город принял «sanctitas» от «sanctissima prima sedes», то есть папского престола. Между тем в V в. дело обстояло совсем иначе, во всяком случае, для императорской канцелярии. Хрисос констатирует, что для языческого Рима вполне обычным было определение «sacratissima Roma», как его называет, к примеру, Тит Ливий. Тем не менее на это Хрисос замечает следующее: «Однако от несущего на себе языческий отпечаток понятия “sacratissima Roma” до перенесения понятия “sanctus” в христианской коннотации на город Петра и пап – долгий путь, на который в начале V в. и конкретно на Востоке еще не вступили»11. Соответственно других примеров применения этого термина к Риму, согласно утверждению Хрисоса, в указанную эпоху не имеется. Отметим здесь, что, хотя выражение «sacratissima Roma» восходит к языческим временам и нехристианскому восприятию священного, в наших источниках оно присутствует. Так, сам император Гонорий назвал Рим «sacratissima urbs» в своем пись- ме к префекту города Симмаху от 15 марта 419 г., сохранившемся в «Авеллановом собрании» [17, p. 68.24]. В последнем вообще представлены довольно многочисленные случаи приложения к Риму эпитета «sacratissima» со стороны христианских императоров.
Таким образом, исследователь считает возможным уточнить мнение Моммзена: рескрипт Феодосия является продуктом более позднего времени. Досадный пробел в доказательствах Римом своих прерогатив в отношении Иллирика был восполнен при составлении «Фессалоникского собрания» подложной вставкой одного документа, который должен был устранить «законную силу» (Rechtskraft) эдикта 421 г. о предоставлении Константинополю юрисдикции в отношении церковных дел Восточного Иллирика. В качестве terminus post quem фальсификации Е. Хрисос предлагает 534 г. – год появления Кодекса Юстиниана, в состав которого данный эдикт был включен как действующая норма [13, S. 247].
Свои аргументы относительно мнений И. Фридриха, а также, главным образом, Т. Моммзена и Е. Хрисоса, мы изложим ниже в ходе анализа эдикта Феодосия II от 421 г. и переписки западного и восточного соправителей, состоявшейся предположительно в 422 г., а пока перейдем к анализу послания Гонория, запустившего эту переписку.
Итак, в неопределенное, но скорое время после издания Феодосием Младшим указа в пользу константинопольского предстоятеля, император Гонорий направил своему племяннику-соправителю послание следующего содержания 12: «Не можем мы отрицать, что во всех делах, в которых требуется наша помощь, ходатайство перед слухом твоей милости будет полезным, но по необходимости бóльшая наша забота и усердие причитается тому, что содержится в пожеланиях святого апостольского престола. Ведь поскольку наша Империя всегда управляется благоволением Божиим, не подлежит сомнению, что следует выказывать особое почитание Церкви того града, из которого [и] мы получили и Римскую державу, и священство – начало. Тем самым ничего другого направленное нашим благочестием посольство не потребует, кроме того, что согласно с учением и справедливос- тью кафолической веры: ведь оно добивается, чтобы те привилегии, которые встарь были установлены отцами и вплоть до наших времен соблюдались, пребывали непоколеблен-ными. В каковой части твоя тихость 13, о господин священнейший сын, досточтимый август, усматривает, что совершенно [ничего] нельзя изымать из старых постановлений, если они записаны в канонические правила, и уязвлять почитание стольких веков новоявленными превратными суждениями. Посему твое величество, изучив обращения нашего благочестия и помня о христианстве, которое было влито в наши груди небесным милосердием, устранив все, что, как говорят, притязаниями различных епископов было достигнуто в Ил-лирике, да укажет, чтобы сохранялся древний порядок, дабы Римская Церковь при христианских принцепсах не утратила того, чего она не потеряла [даже] при других императорах».
Прежде чем перейти к анализу содержания письма Гонория, разберем приведенные выше аргументы И. Фридриха и Т. Моммзена, доказывавших его неподлинность. Аргументация Фридриха строится в основном вокруг того, что никаких указаний на переписку между императорами и ее итоги нет в письмах папы Бонифация, составленных непосредственно после того, как она состоялась. Других доказательств в работе Фридриха мы, по сути дела, не обнаруживаем, и тем самым вопрос о подлинности письма западного императора стоит в связи с вопросом подлинности писем Бонифация, которую Фридрих оспаривает. По его мнению, подложность писем Бонифация является доказательством того, что и императорское письмо является подложным.
Бóльший интерес представляют аргументы Т. Моммзена. На основании собственной колоссальной начитанности в источниках данного периода он высказывает общее соображение о нехарактерности такого жанра переписки для законодательных собраний V–VI вв. и находит ему только одно соответствие в Кодексе Феодосия и связанных с ним документах. Мы, со своей стороны, полагаем, что утверждение Моммзена неверно по той причине, что в поиске аналогий он произвольно сузил круг источников и не совсем верно квалифицировал жанр писем, отнеся их к законодательному. При этом Моммзен не учел зна- чительный пласт сохранившейся деловой переписки императоров, содержащей распоряжения, не имевшие силу закона, однако представляющие собой распорядительные документы по текущим делам, составленные в виде рескриптов – директив, направленных в ответ на запросы исполнительных властей низшего ранга. Таковые в достаточном количестве представлены в собраниях актов Вселенских соборов и тех, которые по определению Эдуарда Швартца называются «публицистическими собраниями» (publizistische Sammlungen), наподобие «Авелланова», которое содержит множество примеров распорядительных императорских документов, не имеющих статус закона 14. В ряду таких документов есть и примеры переписки между западным и восточным императорами: упомянем здесь два письма Гонория к Аркадию по поводу низложения Иоанна Златоуста [36, col. 507–510, 511–512] и переписку 450 г. между западным и восточным дворами по поводу пересмотра итогов Эфесского собора 449 года 15. Показательно, что тексты этой переписки сохраняются как раз внутри церковного документооборота, поскольку относятся к сфере ситуативного регулирования внутри-церковных отношений, в силу чего именно церковная среда оказывается заинтересованной в ее сохранении. Письмо Гонория к Феодосию по поводу Иллирика ничем на этом фоне не выделяется. Таким образом, мы имеем достаточный объем переписки между западным и восточным императорами, чтобы утверждать, что тезис Т. Моммзена оказывается по существу неверен.
Возвращаясь теперь к самому тексту письма Гонория, мы можем констатировать, что оно совершенно очевидным образом реагирует на эдикт Феодосия от 421 г. [32, p. 1117– 1118; 15, p. 44–45]. Как указание на повод к появлению последнего следует понимать высказывание западного императора о «новоявленных превратных суждениях»; привилегии римской кафедры Гонорий противопоставляет «притязаниям различных священников», что, по нашему мнению, также красноречиво свидетельствует о том, что он имеет в виду указ 421 г., поскольку кроме «константинопольского предстоятеля», которого требовалось только держать в курсе происходящего, в нем упоминалось «священническое собрание», которое собственно и должно было творить суд. Упоминание многих акторов, таким образом, давало Гонорию возможность говорить не об одном столичном архиеерее, а о «различных епископах», в том числе, очевидно, и иллирийских. Восприятие императором Римской Церкви достаточно примечательно: Рим для него одновременно и начало Империи, и начало священства [12, S. 375]. «Начало» (principium) священства явно относится ко временам «других», нехристианских, императоров, которых Гонорий упоминает в самом конце послания.
Указания на изначальное, восходящее еще к языческим временам, присущее Риму особое церковное положение, казалось бы, должно было быть достаточно, однако Гонорий указывает и на другой источник церковных прерогатив Рима – «старые постановления, записанные в канонические правила», на основе которых в отношении Рима имеется «почитание стольких веков». Вполне понятно, что единственные каноны, которые мог иметь в виду западный император, – это фальсифицированные в Риме каноны Никейского собора, среди которых можно предполагать и наличие официально озвученной в 451 г. прибавки в 6-е никейское правило «Римская Церковь всегда имела первенство» [2, с. 245–247]. Тем самым не исключено, что воззрения Гонория на древность и «первоначальность» римского священства строились как раз на осмыслении этой подложной фразы. Показательно, что с помощью этих рассуждений Гонорий обосновывает «принадлежность» Иллирика к церковной юрисдикции Рима: она, по его мнению, основывается на старых привилегиях, установленных канонами, и именно в этом заключается «древний порядок» в отношении статуса иллирийских Церквей.
То, что письмо Гонория вызвано непосредственными нуждами и затруднениями папы Бонифация [5, с. 88–89], можно косвенно установить по одному примечательному совпадению, на которое впервые обратил внимание Эрих Каспар [12, S. 608–609; 13, S. 244]. Тезис Гонория о том, что свои привилегии, – явно, что и в отношении Иллирика, – Римская Церковь имела и не утрачивала даже во времена нехристианских императоров, не только поразительно антиисторичен 16, но и крайне нехарактерен для всей истории римских претензий на церковное главенство в изучаемый период.
Единственное, по нашим наблюдениям, соответствие этому тезису встречается как раз в это время в послании папы Бонифация, который ввиду своей болезни 1 июля 420 г.17 обратился к императору Гонорию с просьбой способствовать в случае его кончины мирному и законному избранию нового понтифика. В этом послании встречается следующая фраза 18: «Ведь пока по благоволению Господа ты как почитатель божественной религии председательствуешь в человеческих делах, будет нашей виной, если под Вашей славой, которая, как точно [известно], всегда с большой готовностью благоволила божественным делам, не будет соблюдаться на основе прочного и устойчивого права то, что она (Церковь. – М. Г. ) обрела на протяжении такой череды лет и даже при таких принцепсах, которые не были связаны никакой заботой о нашей религии, то есть при языческих, и под властью Вашей милости не будет вызывать никакого опасения то, что незаконно».
Именно в это время Бонифаций уже находился в переписке с епископатом Иллирика и соответственно, когда пришла необходимость реагировать на принятое в Константинополе решение относительно влияния столичного предстоятеля на церковные дела Иллирика, в Риме и Равенне им был запущен параллельный процесс, который состоял в том, чтобы оказать воздействие на иллирийских епископов и на восточный двор по линии папского престола и по линии западного императора 19.
Итак, в «Фессалоникском собрании» представлен и ответ императора Феодосия на письмо своего западного коллеги. Приведем здесь его перевод 20: «Заслуживает достойного суждения всякий, кто окажется доносящим до нашей милости обращения вечного принцепса, о господин священнейший отец, досточтимый август, и особенно в рассуждении христианской религии, которая досточтимым чувствам твоего величества была внушена таким образом, что, весьма широко простертая, сохраняется в нашем сердце. Ведь Бог-Творец поставил предстоятелей после христианских принцепсов, так чтобы с устра- нением всякого домогательства сохранялось то, что установлено нашими предками. И хотя не только ради того, что сохранило неповрежденными божественные суды, блюдутся нами обращения твоей вечности и заслуживают быть воспринятыми в быстром порыве со всяким преклонением, но [и] в особенности [ради] того, что во спасение всего века и нашего царства до сих пор хранит [в себе] имя того славного города. Посему, устранив всякое домогательство ходатайствующих епископов Иллирика, мы постановляем, чтобы соблюдалось то, что провозглашают древнее апостольское предание и старые каноны. О каковом деле по образцу повеления твоей вечности мы обратили наши послания к сиятельным мужам префектам претория Иллирика, чтобы с прекращением домогательств епископов, они заставили особо соблюдать древний порядок, дабы чтимая Церковь святейшего города не утратила установленные старшими привилегии, которые для нас освятила своим именем вечная держава».
Как и в случае с письмом Гонория, обратимся здесь, прежде всего, к рассмотрению аргументов, высказанных исследователями против подлинности данного текста. По поводу возражений Т. Моммзена, которые в равной степени касались и письма Гонория, и ответа на него Феодосия, мы изложили наши соображения выше: они в равной степени применимы и к случаю рескрипта Феодосия. Иначе дело обстоит с аргументами Е. Хри-соса, который, признавая подлинность письма Гонория, привел собственные доказательства подложности рескрипта Феодосия. Первый из них: употребление латинского слова «regnum» в императорском документе он считает невозможным, поскольку принятым в официальном делопроизводстве оно становится не раньше юстинианова времени: в документах V в. оно для описания императорской власти не встречается.
Мнение Е. Хрисоса является ошибочным: понятие «regnum» как синоним термина «imperium» входит в оборот как раз в первой половине V в., и вместе со своими производными (например, прилагательным «regalis») встречается в документах этого времени. В 431–432 гг. папа Целестин в письмах к императору Феодосию несколько раз употребля- ет этот термин [6, p. 25.21, 28; 88.26, 33], а затем и папа Лев в 449–458 гг. многократно употребляет его в письмах к Феодосию, Мар-киану и Льву I [8, p. 4.18; 11.26; 21.6; 41.17; 42.30; 48.13, 24; 69.9; 90.10; 91.9; 94.16; 111.35; 119.12]. В 447 г. оно встречается в новелле Феодосия [24, p. 6.6: in alterius quoque principis regno], а затем в двух новеллах Майориана 458 г. [24, p. 156.3: propitia divinitas, quae regni nostri augeat pro vestra et publica utilitate successus; 157.3: regni nostri novitas]. Уже в указе Валента, Грациана и Валентиниана II от 14 сентября 379 г. встречается выражение «regalis aula» [43, p. 743], а в новелле Феодосия от 26 июня 441 г. – «fundi regales» [24, p. 15.6]. Таким образом, употребление этого слова в рескрипте Феодосия к Гонорию вполне укладывается во временной контекст и может считаться его первым по времени зафиксированным употреблением.
Что касается второго аргумента Е. Хри-соса относительно того, что употребление Феодосием выражения «святейший город» (sanctissima urbs) применительно к Риму является анахронизмом, то этот аргумент мы считаем целиком произвольным. Как будет показано выше, в своем послании Феодосий широко употреблял традиционную, восходящую к дохристианским временам, топику в отношении Вечного Города и тем самым «sanctissima urbs» в его устах могло употребляться как вполне естественный вариант традиционных эпитетов Рима, таких как «urbs sacra» или «urbs sacratissima»: в сущности, нам совершенно не ясно, что могло помешать Феодосию назвать Рим таким образом. В качестве сравнительного материала приведем указ императора Маркиана от 7 февраля 452 г., в котором уже Константинополь называется «sanctissima urbs» [6, p. 22.19]. Поскольку очевидно, что у восточной столицы с точки зрения церковно-политических отношений было меньше оснований именоваться таким титулом, то совершенно очевидно, что этот титул применялся к нему в силу того, что город имел статус имперской столицы, императорской резиденции и обладал прочими священными атрибутами центра римской государственности. Титулатура Константинополя, отраженная в актах Вселенских соборов, в подавляющем большинстве копирует традиционную титула- туру, применяемую к императорской столице и своими корнями также уходящую в докон-стантиновское время [9, p. 90–91]. Помимо этого, императоры Феодосий и Маркиан не раз именовали Константинополь другим традиционным для Рима титулом «sacratissima urbs» [24, p. 91.19 (nov. X); p. 107 (nov. XX); p. 187.29 (nov. II)]. Со своей стороны, тот же эпитет уже к самому Риму прилагал Валентиниан III [24, p. 127 (nov. XXVIIII)]. Ввиду этих данных, по нашему мнению, не может вызывать сомнения то, что Феодосий II в ту же эпоху вполне мог применить этот титул и к Риму 21.
Отдельно обратим внимание на позицию, представленную по интересующему нас вопросу в недавнем исследовании Петера Ридль-бергера [33, S. 111, Anm. 165]. Указав на ошибочность мнения Е. Хрисоса на основании приведенных выше свидетельств новелл Феодосия и Майориана, где присутствует слово «regnum», исследователь, тем не менее, решительно заявил о подложности писем императоров [33, S. 111. Anm. 165: “Dagegen ist der angebliche Briefwechsel zwischen Honorius und Theodosius fraglos unecht”]. Содержательное совпадение пассажей в письме Гонория и письме папы Бонифация о прерогативах римской кафедры, восходящих якобы к языческим временам, он считает вовсе неубедительным (überzeugt gar nicht) как аргумент в пользу подлинности первого 22. Впрочем, свою позицию исследователь аргументирует далее исключительно на основе общих субъективных соображений: он полагает, что «раскланивание» (Kotau) императоров перед Римской Церковью в такой форме невероятно для того времени (zeitgenössisch unwahrscheinlich). Очевидно, что он при этом забывает о таких текстах, как рескрипт 378/379 г. о судебных полномочиях римской кафедры, конституции Грациана, Валенти-ниана II и Феодосия от 380 г., где заявляется о вере папы Дамаса, об указе Валентиниана III 444 г. о судебных прерогативах римской кафедры в Галлии, которые содержат многочисленные восхваления в ее адрес.
Далее П. Ридльбергер полагает, что с языковой точки зрения (sprachlich) оба послания слишком «просты» (viel zu schlicht) для подлинных императорских посланий и «кто прочтет внимательно по-настоящему подлинные послания императоров, а затем сравнит их с этими, едва ли сможет не заметить разницы в стиле» [33, S. 112, Anm. 165: “wer die sicher echten Kaiserschreiben aufmerksam durchliest und dann CN 375 II/III vergleicht, wird den Stilunterschied kaum übersehen können”]. По нашему мнению, эти высказывания – вообще не аргументация. Мы, обладая определенной начитанностью в посланиях императоров по делам Церкви, находящихся за пределами законодательных сводов Феодосия и Юстиниана, не видим, чем принципиально отличается по стилю переписка Гонория и Феодосия, скажем, от посланий Гонория к Аркадию по делу Иоанна Златоуста или переписки западного императорского семейства с Феодосием II в 450 г. и тем самым не понимаем, в силу чего для П. Ридльбергера возвышенный стиль, которым пользуется, к примеру, Феодосий в своем рескрипте, оказывается «слишком простым». Кроме того, не ссылаясь на И. Фридриха и Т. Моммзена, П. Ридльбергер воспроизводит их аргументы. Первый, что «затронутая там регламентация относительно Иллирии в то время не существует» [33, S. 111, Anm. 165: “Die darin getroffene Regelung hinsichtlich Illyrien ist kontemporär inexistent”], и второй – у Феодосия упомянуты «префекты претория Иллири-ка», хотя должен быть один префект. Понятно, что педантичные германские ученые не могут помыслить о том, что законодательный процесс мог дать сбой: если сказано, что будет рескрипт на имя «префектов Иллирика», значит он «muß sein»: между тем причин, почему он не появился, может быть бесконечное множество. Повторим наш тезис: Феодосий мог не спешить с изданием рескрипта на имя префекта Иллирика, а ввиду наступившей 15 августа 423 г. смерти Гонория и начала очередной смуты на Западе Феодосий счел уже ненужным издавать его, поскольку выполнение личной договоренности с почившим дядей, на которую он пошел, вероятно, из пиетета, было для него в целом невыгодным. А если он его даже и издал, то мог не включать в Кодекс 438 г. именно по той же причине, что эдикт 421 г. был для Восточной империи более выгодным. Что же касается упоминания Феодосием во множественном числе «префектов претория», то серьезность, с которой немецкие ученые считают это суще- ственным аргументом против подлинности послания, вызывает удивление ввиду изобилия примеров, когда в латинской прозе в целях художественной деконкретизации вместо единственного числа существительных используется множественное: а ответ Феодосия Гонорию написан стилем довольно высокопарным 23.
Таким образом, выдвинув аргументы против всего спектра опубликованных возражений в отношении подлинности рескрипта Феодосия, мы можем приступить к его анализу как подлинного документа 24.
Итак, вывод при чтении этого текста очевиден – восточный император удовлетворяет запрос своего западного коллеги и отзывает свое решение относительно подсудности иллирийских провинций 25. Однако этот текст содержит и определенные существенные нюансы. Прежде всего, почти половина текста в довольно выспренних выражениях передает идею того, что уступка Феодосия вызвана ничем иным, кроме уважения, с одной стороны, лично к Гонорию, а с другой – к «славному» и «святейшему» городу. Феодосий явно подчеркивает особый статус города, причем фразеология письма подобрана так, что до конца остается не вполне понятно, имеет ли восточный император в виду христианское или миродержавное значение Рима. Он не упоминает апостола Петра, апостольский престол, первенство священства и тому подобные папские идеологемы, на которых в значительной мере строится послание Гонория. «Имя славного города», а отнюдь не его христианско-религиозные качества и потенции – вот что является залогом «спасения (sospitas) века и царства», однако это скорее можно понять в смысле своеобразной «имперской эсхатологии» (Reichseschatologie). Именно в силу того, что Рим – это вечный Рим, а не, скажем, город святого Петра, а также из уважения к просьбе дяди Феодосий соглашается с тем, что «древний порядок» может быть в отношении Рима соблюден на основе неких привилегий 26. Далее следует довольно двусмысленная фраза: «которые для нас освятила своим именем вечная держава». Под «вечной державой» – «perenne imperium» – можно понимать и царствие небесное в христианском смысле, и вечную Римскую империю: в дан- ном случае Феодосий продолжает сохранять присущую его письму двусмысленность 27. Соответственно его фразу можно двояко и понимать: с одной стороны, привилегии Церкви Рима освящены вечной державой («империей») Бога, а с другой стороны – вечной державой, то есть Римской империей. Последний вариант отражает вполне обычную государственно-политическую практику императорского утверждения всех общецерковных канонических постановлений, в том числе касающихся привилегий «великих престолов», и в целом выглядит более естественно, если судить по тому, что он выражен в терминологии, присущей описанию именно Империи и императорской власти.
Помимо этого, в послании Феодосия присутствует и другой любопытный аспект: восточный император упоминает о наличии ходатайств со стороны епископов Иллирика, которые, вне всякого сомнения, стали поводом к изданию эдикта от 14 июля 421 года. Этим самым император между прочим указывает своему коллеге, что его законодательная инициатива, как это полагалось, была ответом на прошения «снизу» и тем самым отражала чаяния иллирийского епископата, включая, очевидно, и провинциальных митрополитов, которые, как это будет показано ниже, имели достаточно поводов для недовольства той системой, которую папы начали продвигать в Иллирике 28. Указание на ходатайство иллирийских епископов является единственным указанием на то, кто инициировал данное императорское распоряжение. Феодосий при этом четко заявляет, что, издавая свой указ относительно церковной юрисдикции, он был в своем праве, поскольку «Бог-Творец поставил предстоятелей после христианских принцеп-сов» – то есть императоры имеют «предстояние» или первенство по отношению к епископату. Тем самым он дополнительно обосновывает право императоров на церковное законодательство в угодном им ключе, тем более что оно удовлетворяет конкретные пожелания подданных. Оставить теперь ходатайство иллирийских епископов без удовлетворения Феодосий выражает готовность в качестве личной услуги своему старшему соправителю и из уважения к миродержавной роли города Рима. Если Гонорий в своем письме заявил, что руководствовался «пожеланиями святого апостольского престола»29, то Феодосий отметил, что действовал в русле пожеланий иллирийских епископов. Однако в ситуации столкновения интересов Феодосий ожидаемым образом выказал уважение своему соправителю и Вечному Городу 30.
Впрочем, единственное косвенное указание на апостольский статус Рима встречается в письме восточного императора там, где он говорит о «древнем апостольском предании и старых канонах», причем следует отметить, что в то время, как папская идеология настаивала на неразрывной связи того и другого, Феодосий эти два понятия разделяет: у него апостольское предание не связано со старыми канонами, а стоит особо или наряду с последними. Как следствие, высказывание о соблюдении «древнего порядка» он перенимает из письма Гонория, не подвергая его пересмотру и не запрашивая о конкретизации. Этот «древний порядок» Феодосий и сам оставляет без конкретизации, не уточняя, какие именно привилегии он готов признать за Римской Церковью, и только указание на обращение к префектам Иллирика указывает на то, что речь идет об этом регионе.
В завершении кратко обратимся к вопросу о том, почему несмотря на готовность Феодосия «восстановить» привилегии Римской Церкви и издать новый указ на имя префекта претория Иллирика, указ от 421 г. все же присутствует в Кодексе Феодосия, а затем воспроизводится в Кодексе Юстиниана. По нашему мнению, наиболее правдоподобным образом этот вопрос решается Эрихом Каспаром. Он отмечает, что переписка между Гонорием и Феодосием по этому вопросу была завершена рескриптом Феодосия и тем самым не привела к изданию от имени обоих императоров соответствующего закона 31. В силу этого эдикт 421 г. сохранил статус действующего закона, в то время как указ Феодосия на имя префекта претория Иллирика, который бы закреплял церковные привилегии Рима в регионе, или не сохранился, или же не был вовсе составлен, поскольку уже в 423 г. Гонорий скончался [12, S. 376].
Результаты. Таким образом, несмотря на возражения, представленные в старой литературе, подлинность фрагментов перепис- ки императоров Гонория и Феодосия по вопросу церковно-административной принадлежности Восточного Иллирика представляется несомненной. Данные послания хорошо встраиваются в контекст других сохранившихся императорских посланий, не имевших распорядительного характера, однако затрагивающих вопросы церковной политики и церковного управления. На основе их анализа можно сделать однозначный вывод, что высшей инстанцией по церковно-административным вопросам являлись именно императоры: ни римский папа, ни константинопольский патриарх не имели инструментов для получения юрисдикции в том или ином регионе в обход мнения последних.
Список литературы Два императорских письма из "Фессалоникского собрания": проблемы подлинности и содержания
- Gratsianskiy M.V. «Milost gosudarya utverdila Bonifatsiya episkopom goroda Rima»: imperator Gonoriy i krizis legitimnosti v Rimskoy tserkvi v 419 g. ["Mercy of the Prince Has Confirmed Boniface as Bishop of the City of Rome": Emperor Honorius and the Legitimacy Crisis in the Church of Rome in 419]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnye nauki, 2021, vol. 23, no. 2, pp. 9-26. DOI: https://doi.org/10.15826/ izv2.2021.23.2.022
- Gratsianskiy M.V. Protsedura vozvysheniya konstantinopolskoy kafedry na IV Vselenskom sobore v Khalkidone [The Elevation of the See of Constantinople at the Council of Chalcedon: The Course of the Procedure]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations], 2021, vol. 26, no. 6, pp. 236-251. DOI: https://doi.org/ 10.15688/jvolsu4.2021.6.19
- Gratsianskiy M.V. Akty 531 g. kak obramlenie "Fessalonikskogo sobraniya": ekklesiologicheskie i kanonicheskie aspekty dela Stefana Larisskogo [Acts of 531 as a Framework for Collectio Thessalonicensis: Ecclesiological and Canonical Aspects of the Case of Stephanus of Larissa]. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriya II: Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2020, vol. 92, pp. 19-38. DOI: 10.15382/sturII202092.19-38
- Zakharov G.E. Ekklesiologicheskie osnovaniya i istoricheskie istoki Fessalonikskogo vikariata [Ecclesiological Foundations and Historical Origins of the Vicariate of Thessalonica]. Zakharov G.E., Anashkin A.V., eds. Ekklesiologicheskaya traditsiya i tserkovnaya organizatsiya Illirika v kontse IV -pervoy polovine V v. Issledovaniya i perevody [Ecclesiological Tradition Ecclesiastical Organization of Illyricum at the End of the 4th - the First Half of the 5th Centuries. Studies and Translations]. Moscow, Izd-vo PSTGU, 2022, pp. 69-114.
- Leporskiy P. Istoriya Fessalonikskogo ekzarkhata do vremeni prisoedineniya k Konstantinopolskomu patriarkhatu [History of the Exarchate of Thessalonica Until Its Integration into the Patriarchate of Constantinople]. Saint Petersburg, Tip. M.I. Akinfiyeva i N.V Leontyeva, 1901. xiv, 352 p.
- Schwartz E., ed. Acta conciliorum oecumenicorum. T. I. Vol. 2. Berlin, Leipzig, Walter de Gruyter, 1925-1926. xii, 128 p.
- Schwartz E., ed. Acta conciliorum oecumenicorum. T. II. Vol. 3. Pars 1. Berlin, Leipzig, Walter de Gruyter, 1935. xviii, 259 p.
- Schwartz E., ed. Acta conciliorum oecumenicorum. T. II. Vol. IV. Berlin, Leipzig, Walter de Gruyter, 1932. xxxxvi, 192 p.
- Schieffer R., ed. Acta conciliorum oecumenicorum. Index tomorum I-IIII. T. IV. Vol. 3. Pars 2. Berlin, Walter de Gruyter, 1984. xii, 509 p.
- Blaudeau Ph. Le siège de Rome et l 'Orient (448-536). Étude géo-ecclésiologique. Rome, École française de Rome, 2012. x, 415 p. (Collection de l'École française de Rome; 460).
- Bury J.B. History of the Later Roman Empire. From the Death of Theodosius I. to the Death of Justinian (A.D. 395 to A.D. 565). London, Macmillan and Co, 1931, vol. 1. xxv, 471 p.
- Caspar E. Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft. Vol. 1. Tübingen, Verlag von J.C.B. МпЫ" (Caul Siebeck), 1930. xv, 633 S.
- Chrysos E. Zur Echtheit des "Rescriptum Theodosii ad Honorium" in der "Collectio Thessalonicensis". Këçpovo^ta, 1972, vol. 4/2, pp. 240-250.
- Dagron G. Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451. Paris, Presses universitaires de France, 1975. 578 p.
- Dunn G.D. Church and State in the Dispute Over the Vicariate of Thessaloniki During the Pontificate of Boniface I. Journal of Early Christian History, vol. 10, no. 1, pp. 37-60.
- Dunn G.D. Imperial Intervention in the Disputed Roman Episcopal Election of 418/419. Journal of Religious History, 2015, vol. 39, no. 1, pp. 1-13.
- Günther O., ed. Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae. Avellana quae dicitur collectio. Pars I. Prag, Wien, Leipzig, 1895. lxxxix, 493 p. (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum; 35).
- Silva-Tarouca C., ed. Epistularum Romanorum Pontificum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos Collectio Thessalonicensis. Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1937. Xiii, 87 p. (Textus et documenta in usum exercitationum et praelectionum academicarum; 22).
- Friedrich J. Über die Sammlung der Kirche von Thessalonich und das päpstliche Vikariat für Illyricum. Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrgang 1891. München, Verlag der Königlichen Akademie, 1892, pp. 771-887.
- Fuhrmann M. Die Romidee der Spätantike. Historische Zeitschrift, 1968, vol. 207, no. 1, pp. 529-561.
- Greenslade S.L. The Illyrian Churches and the Vicariate of Thessalonica, 378-395. The Journal of Theological Studies, 1945, vol. 46, no. 181-182, pp. 17-30.
- Hajjar P.J. Le synode permanent (avvoôoç êvôç^ovaa) dans l'église byzantine des origines au XIe siècle. Roma, Pontificium institutum orientalium studiorum, 1962. vii, 230 p. (Orientalia Christiana Analecta; 164).
- Haller J. Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit. Vol. 1. Urach, Stuttgart, Port Verlag, 1950. xvi, 560 S.
- Mommsen Th., Meyer P.M., eds. Leges Novellae ad ad Theodosianum Pertinentes. Theodosiani libri XVI. Berolini, apud Weidmannos, 1905, vol. 2, cix, 219 p.
- Macdonald J. Who Instituted the Papal Vicariate of Thessalonica? Studia Patristica, 1961, vol. 4, pp. 478-482.
- Mazza M. Eternità ed universalità dell'impero romano: da Costantino a Giustiniano. Catalano P., Siniscalco P. , eds. Da Roma alla terza Roma. Documenti e Studi. Vol 1. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1983, pp. 267-293.
- Mazzarino S. Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio. Roma, Angelo Signorelli Editore, 1942. viii, 401 p.
- Mommsen Th. Nachricht 47. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 1893, vol. 18, pp. 357-358.
- Moore F. G. On Urbs Aeterna and Urbs Sacra. Transactions of the American Philological Association, 1894, vol. 25, pp. 34-60.
- Moreau D. La partitio imperii et la géographie des Balkans: entre géopolitique et géo-ecclésiologie. Costellazioni geo-ecclesiali da Costantino a Giustiniano: Dalle chiese 'principali ' alle chiese patriarcali. XLIIIIncontro di Studiosi dell ' Antichita Cristiana (Roma, 7-9 maggio 2015). Roma, Pontificium Institutum Augustinianum, 2017, pp. 255285. (Studia Ephemeridis Augustinianum; 149).
- Pietri Ch. La géographie de l'Illyricum ecclésiastique et ses relations avec l'Église de Rome (Ve-VIe siècles). Villes et peuplement dans l'Illyricum protobyzantin. Actes du colloque de Rome (12-14 mai 1982). Rome, École française de Rome, 1984, pp. 21-62. (Publications de l'École française de Rome; 77).
- Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440). Rome, École française de Rome, 1976. xiii, 1792 p. (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome; 224).
- Riedlberger P. Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe. Stuttgart, Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 2020. 898 p.
- Rösch G. ONOMA BAZIAEIAZ Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit. Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978. 179 p. (Byzantina Vindobonensia; 10).
- Migne J.-P., ed. Sancti Bonifatii papae Epistulae et decreta. Paris, 1845, col. 749-792. (Patrologiae cursus completus. Series Latina; T. 20).
- Migne J.-P., ed. Sancti Innocentii papae Epistulae et decreta. Paris, 1845, col. 463-638. (Patrologiae cursus completus. Series Latina; T. 20).
- Migne J.-P., ed. Sancti LeonisMagni Romani pontificis operum genuinorum pars altera, continens S. Patris epistolas. Paris, 1846, col. 551-1218. (Patrologiae cursus completus. Series Latina; T. 54).
- Hansen G. Ch., ed. Sokrates Kirchengeschichte. Berlin, Akademie Verlag, 1995. lxii, 501 p.
- Stein E. Der Verzicht der Galla Placidia auf die Präfektur Illyricum. Wiener Studien, 1914, vol. 36, pp. 344-347.
- Stein E. Histoire du Bas-Empire. Vol. 1. Paris, Brussels, Amsterdam, Desclée de Brouwer, 1959. xvi, 406 p.
- Streichhan F. Nochmals die Anfänge des Vikariats von Thessalonich. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 1928, vol. 17, no. 1, pp. 538-548.
- Streichhan F. Die Anfänge des Vikariates von Thessalonich. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 1922, vol. 12, no. 1, pp. 330-384.
- Mommsen Th., Meyer P.M., eds. Theodosiani libri XVI. Vol. 1. Pars 1. Berolini, apud Weidmannos, 1905. ccclxxx, 931 p.
- Turlej S. Justiniana Prima. An Underestimated Aspect of Justinian 's Church Policy. Krakow, Jagiellonian University Press, 2016. 241 p.
- Ullmann W. Gelasius I. (492-496). Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter. Stuttgar, Anton Hiersemann, 1981. xii, 317 p. (Päpste und Papsttum; 18).
- Zeiller J. Une ébauche de vicariat pontifical sous le pape Zosime. Revue Historique, 1927, vol. 155, no. 2, pp. 326-332.