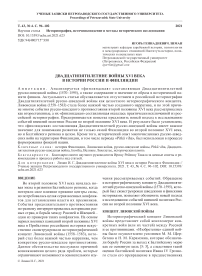Двадцатипятилетние войны XVI века в истории России и Финляндии
Автор: Лиман Игорь Геннадиевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируется «финляндская» составляющая Двадцатипятилетней русско-шведской войны (1570-1595), а также содержание и значение ее образа в исторической памяти финнов. Актуальность статьи обуславливается отсутствием в российской историографии Двадцатипятилетней русско-шведской войны как целостного историографического концепта. Ливонская война (1558-1583) стала более важной частью созданного нарратива, и по этой причине многие события русско-шведского противостояния второй половины XVI века рассматривались как второстепенные, а их «финляндская» составляющая оказалась практически исключенной из российской историографии. Предпринимается попытка предложить новый подход к исследованию событий внешней политики России во второй половине XVI века. В результате было установлено, что «финляндская» составляющая Двадцатипятилетней русско-шведской войны имеет важное значение для понимания развития не только самой Финляндии во второй половине XVI века, но и Балтийского региона в целом. Кроме того, исторический опыт многочисленных русско-шведских войн на территории Финляндии, в том числе периода «Pitkä viha», был использован в процессе формирования финской нации.
История финляндии, ливонская война, русско-шведские войны, pitkä viha, двадцатипятилетняя русско-шведская война, isoviha, великое лихолетье, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/147227361
IDR: 147227361 | УДК: 94(480)"15":930 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.623
Текст научной статьи Двадцатипятилетние войны XVI века в истории России и Финляндии
Во второй половине XVI века началась новая эпоха в развитии Балтийского региона, когда потеряли свое влияние прежние центры силы, но потребовалась целая серия военных конфликтов для установления власти их преемников. События продолжительного противостояния по-разному интерпретировались историками разных стран, и борьба между Россией и Швецией – один из примеров таких конфликтов. На основе первых военных кампаний второй половины XVI века в Прибалтике российские историки искусственно сконструировали историографический концепт Ливонской войны (1558–1583), который стал более важной частью нарратива, чем конкретное русско-шведское противостояние. Данное обстоятельство послужило причиной возникновения целого ряда проблем, которые ограничивают возможности основательного изу чения рассматриваемых событий. Обращение к историографическому концепту Двадцатипятилетней русско-шведской войны (1570–1595), который был сконструирован шведскими и финскими историками, позволяет обозначить новый подход к исследованию событий внешней политики России во второй половине XVI века.
КОНЦЕПТ ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЫ
Историографический концепт Ливонской войны представляет собой конгломерат конкретных войн (или их частей) между Россией и ее противниками. «Изобретение» единой войны было осуществлено усилиями М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, которые обозначили борьбу России за выход к Балтийскому морю как ее основную цель [5: 3], а следствием такой оценки балтийской политики Ивана IV Грозного стало его превращение в предшественника
Петра I Великого [5: 4]. Обозначенная интерпретация получила распространение как в российской, так и в зарубежной – шведской и финляндской – историографии, но в настоящее время она утратила прежнее значение. Появились новые взгляды на Ливонскую войну, в том числе ее интерпретация как первой войны России и Европы, когда произошло столкновение с коалицией европейских держав, то есть с сомкнутым фронтом стран Запада против Московии [4: 7–8]. Их действия не следует рассматривать исключительно как проявление борьбы против России. Каждое государство обладало своими интересами в Балтийском регионе, и в соответствии с ними они вступали в борьбу как с Россией, так и друг с другом («Bellum omnium contra omnes»).
В контексте прежней интерпретации о борьбе России за выход к Балтийскому морю можно подразумевать не просто физический доступ к водному пространству, но преодоление других препятствий, которые ограничивали его свободное использование. Попытка создания собственного торгового порта в Ивангороде оказалась неудачной, что объясняется как внутренней слабостью Русского государства, так и противодействием со стороны ливонских городов и Ганзы [6: 19–20]. Тем не менее одним из условий для дальнейшего успешного развития России в середине XVI века стало установление прочных и широких экономических связей со странами Западной Европы [6: 21], которые и сами проявляли интерес к более тесному сотрудничеству [9: 127]. Завоевание торговых портов слабого Ливонского государства, которые уже долгое время использовались Россией, было естественным решением существующих проблем: создание необходимой инфраструктуры, налаживание торговых связей, устранение конкурентов.
Очевидно, что однозначная характеристика Ливонской войны, скрывавшей в себе несколько конфликтов, невозможна. Эти конфликты имели различные параметры, а устремления противоборствующих сторон формировались не только на основе текущей ситуации, но с учетом уникального опыта их взаимодействия в прошлом. В таком случае весьма продуктивным подходом представляется исследование не Ливонской войны как целостного конфликта, а конкретных случаев противостояния, которые могут не ограничиваться ее хронологическими рамками. Соответственно, важно обратиться к уже существующему в зарубежной историографии концепту Двадцатипятилетней русско-шведской войны. Борьба между Россией и Швецией происходила не только в Прибалтике, но и на севере, однако данные события долгое время оставались в тени. В свою очередь, они оказывали важное влияние на действия противоборствующих сторон, а в некоторые моменты имели решающее значение для войны в целом. Их внимательное изучение позволит более широко взглянуть на противостояние между Россией и Швецией во второй половине XVI века, а также оценить его значение не только в контексте развития каждого противоборствующего государства, но всего Балтийского региона в целом. Данный вопрос требует обстоятельного исследования, а в текущей статье предпринимается попытка представить общую характеристику «финляндской» составляющей Двадцатипятилетней русско-шведской войны и более подробно осветить ее малоизвестные в российской историографии события.
ФИНЛЯНДИЯ
В ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНЕЙ РУССКО-ШВЕДСКОЙ ВОЙНЕ (1570–1595)
Накануне войны наместник в Финляндии Ханну Лауринпойка Бьёрнрам (Ханс Ларссон Бьёрнрам) предупреждал Юхана III о том, что готовится вторжение русской армии в Финляндию, но шведский король полагал, что ситуация в Прибалтике не позволит Ивану IV предпринять какие-либо действия в этом направлении1. Некоторые меры все-таки были приняты, однако дальнейшие события покажут, что их нельзя считать достаточными. На рубеже 1570–1571 годов – в начале войны – численность армии в Финляндии составляла всего около двух тысяч человек, в оборонительных действиях принимали участие также финские крестьяне [12: 154]. Такие силы – первоначально ими руководил Ханну Лауринпойка Бьёрнрам – не могли противостоять русской армии, которая совершила несколько успешных вторжений на территорию Финляндии в 1570–1571 годах. Уже в результате трех первых рейдов южное побережье – от реки Сестра и вплоть до Хельсинкского региона – подверглось значительным разрушениям2. Действия русской армии нанесли большой ущерб финским крестьянам, что отрицательно сказывалось на последующем обеспечении шведской армии, но их влияние на общий ход военных действий было весьма ограниченным.
Весной 1571 года умер Ханну Лауринпой-ка Бьёрнрам, а летом произошла смена командующего армией в Финляндии: Иивари Маунун-пойка Сяркилахти (Ивар Монссон Шернкорс) покинул данный пост, его место занял Густав Банер (1547–1600). Он был образованным человеком, но его опыт ведения военных действий оказался весьма скромным, и назначение на должность произошло, скорее, на основе фак- тора личной преданности Юхану III3. Густав Банер получил инструкции от шведского короля, где среди прочего указывалось, что необходимо действовать на территории России, чтобы избежать разорения Финляндии4. 26 ноября 1571 года шведская армия во главе с Густавом Банером выдвигается из Турку в Выборг. Если начальная численность армии составляла около 3 300 человек, то по ходу движения она увеличилась, и уже в Выборг прибыло около 9 000–10 000 человек5, что является весьма большой цифрой в условиях того времени.
В конце января – начале февраля 1572 года русская армия начала наступление на финляндском театре военных действий. Ее численность, по разным оценкам пленников и шпионов, составляла около 47 тысяч человек, но цифра является явно преувеличенной6. Наступление русской армии, как и в предыдущих случаях, сопровождалось разорением территории, но финские крестьяне уже имели соответствующий опыт и заранее спрятали продовольственные запасы, скот и другие ценные вещи. В свою очередь, Густав Банер не предпринимал каких-либо активных действий по защите Финляндии, что в отчетах Юхану III он объяснял сложными погодными условиями в зимнее время, а также превосходящими силами противника7. Скорее, истинной причиной бездействия стал недостаток опыта у молодого командующего, который не смог оправдать надежд шведского короля. Уже летом 1572 года Густав Банер получил приказ отправиться в Польшу и покинул Финляндию8.
6 августа 1572 года на должность командующего армией в Финляндии был назначен Герман Флеминг (1520–1583). Одной из его наиболее важных задач – по плану Юхана III – стало нападение на территории Корельского и Ореховского уездов в России9. Первый рейд шведской армии был совершен в Корельский уезд и продолжался с 29 декабря 1572 года до 8 января 1573 года, что сопровождалось разорением приграничной территории России. Вскоре был совершен еще один рейд, но уже на территорию Ореховского уезда, который подвергся разрушениям вплоть до окрестностей реки Невы10. Были и другие нападения Германа Флеминга на приграничные территории России, но они не оказывали существенного влияния на общий ход военных действий, а причиняли ущерб только местному гражданскому населению. Такой ущерб в масштабах всего государства не сказывался на обеспечении русской армии, но разрушал прочный плацдарм для вторжений на территорию Финляндии.
После череды взаимных нападений стороны решили заключить перемирие на финляндском театре военных действий, которое продолжалось в 1573–1577 годах [12: 154]. Во время перемирия борьба в Прибалтике не прекращалась, поэтому постоянно существовала угроза возобновления военных действий в Финлян-дии11. После заключения перемирия прибывшие в начале войны дополнительные формирования шведской армии покинули Финляндию, а оставшихся сил было недостаточно для ее защиты. В 1576 году, когда появились слухи о предстоящем нападении русской армии, обороноспособность Финляндии была не в лучшем положении, чем в самом начале войны12. Из-за активных действий в Прибалтике нападения не произошло, но были приняты меры для повышения обороноспособности Финляндии.
В начале 1577 года произошло весьма жестокое нападение татарской конницы Кутук-мурзы на область Уусимаа – южную часть побережья Финляндии [7: 72]. Численность отряда, посланного по льду Финского залива при подходе русской армии к Таллину, составила 1200 человек13. Герман Флеминг предпринял активные действия для защиты финского населения, но не смог помешать татарской коннице, которая разделилась на отдельные группы и подвергла значительным разрушениям одновременно разные территории Уусимаа – Порвоо, Сипоо, Хельсинки, Эспоо, Киркконумми, Сиунтио и Инкоо14. Нападение на территорию Финляндии в условиях действующего там перемирия стало поводом для ответного рейда, который совершил Герман Флеминг в том же 1577 году. В результате его действий значительная часть территории Ингерманландии была подвергнута разорению [10: 129].
Юхан III был недоволен результатами рейда, и в ноябре 1577 года Герман Флеминг потерял должность командующего армией в Финляндии, а его место занял Хенрикки Клаунпойка Горн (Хенрик Классон Горн) (1512–1595), который накануне назначения проявил себя во время осады Таллина русской армией15. В феврале 1578 года вновь возобновились вторжения на приграничные территории России с целью их разорения, а несколько позднее – осенью 1578 года – появилось указание Юхана III действовать на тех территориях, которые ранее оставались в стороне от военных действий16. С этой целью ранней весной 1579 года шведская армия, которую возглавил Хенрикки Клаунпойка Горн, совершила поход через Ингерманландию вглубь Новгородской земли [2: 96]. Возможно, шведский король заметил, что такой способ ведения военных действий не мог оказать существенного влияния на исход войны, что стало причиной поиска новых подходов. Еще летом 1578 года была предпринята первая неудачная попытка захвата крепости Корела [10: 131], а в 1580 году произошли важные стратегические изменения, которые оказали значительное влияние на дальнейший ход войны и ознаменовали собой начало ее нового этапа.
Таким образом, на первом этапе войны (1570–1580) обнаруживается отсутствие должной подготовки к оборонительным действиям в Финляндии: недостаток ощущался как в людских, так и материальных ресурсах. Данное обстоятельство связано не только с отсутствием внимания к проблеме, но и обнищанием Шведского государства [7: 72]. Трудности начального периода удалось быстро преодолеть, но появилась проблема обеспечения порядка и содержания большого количества солдат, прибывающих в Финляндию. Военные действия имели свирепый характер, а их сущность заключалась в тотальном разорении приграничных территорий и уничтожении гражданского населения, что должно было лишить противника возможности использовать ресурсы для ответных ударов [10: 124]. Обе стороны не уступали друг другу в проявлениях жестокости, а разрушения приграничной территории России были даже более масштабными, чем в Финляндии [10: 136]. Такие действия не могли оказать существенного влияния на исход войны, скорее, они являлись способом отвлечения внимания противника от основных событий в Прибалтике, чем пользовалась каждая противоборствующая сторона.
В 1580 году была впервые – ее прообраз появился еще в 1572 году [10: 137] – разработана программа шведских территориальных захватов за счет России, которая в зарубежной историографии получила название «великой восточной программы». Ее задачи предполагали захват всего российского побережья Финского залива, а также Баренцева и Белого морей (вплоть до Холмогорского острога в устье Северной Двины) [1: 167–168]. Содержание обозначенной программы стало основой для дальнейших завоевательных планов шведских правящих кругов рубежа XVI–XVII веков по отношению к России [1: 168]. В результате ее реализации Россия могла потерять не только выход к Балтийскому морю: с захватом Русского Севера исчезали и другие возможности для установления прямых торговых связей с государствами Западной Европы. Страна оказалась в ситуации, когда ее действия определялись не только собственными мотивами, но и потребностью защищать свои исконные позиции в регионе.
На втором этапе войны (1580–1595) действия на севере приобретают основательный и вполне самостоятельный характер, что связано с изменением первоначальных установок. Основной задачей стало не рутинное разорение территорий, а взятие крепостей. Успеху шведского оружия в 1580-е годы сопутствовала благоприятная конъюнктура, которая определялась как внутренней слабостью Русского государства, так и его борьбой сразу с несколькими противниками. В свою очередь, кратковременный период мира (1583–1590)17 изменил ситуацию: позволил восстановить силы для продолжения войны, а также оставил только одного противника на поле битвы – Швецию. На заключительном этапе русская армия действовала весьма успешно, но приход к власти Сигизмунда III значительно укрепил позиции Швеции на переговорном процессе, в результате которого был заключен Тяв-зинский мирный договор (1595).
Прямым следствием военных действий, которые явились тяжелым испытанием для жителей Финляндии, стала хозяйственная катастрофа. В течение войны исчезло каждое пятое крестьянское хозяйство: если в конце 1560-х годов насчитывалось около 35,5 тысячи крестьянских хозяйств, то в начале 1580-х годов их число составляло 31,6 тысячи, а уже в начале 1590-х годов – не больше 29 тысяч [11: 277]. Особенно сильно пострадали жители приграничных областей, что было следствием как действий регулярной русской армии, так и карельских партизанских формирований. В свою очередь, регулярная шведская армия была не в силах в полной мере защитить гражданское население от разорительных действий противника, а ее содержание было весьма тяжелой повинностью, которая истощала ограниченные ресурсы финского крестьянства.
С началом войны значительно увеличилось налоговое бремя: если в обычных условиях доля Финляндии в сборах со всего государства составляла 20–30 %, то в конце XVI века она достигла 60 % [12: 138]. Были введены дополнительные налоги: один из них – «серебряный налог» – появился уже в самом начале войны с Россией и был связан с подписанием Штеттинского мирного договора (1570), одним из условий которого стала выплата 150 тысяч талеров датчанам за возвращение Швеции крепости Эльфсборг. Только в 1578 году выплаты были завершены18, но ситуация не стала лучше, потому что война с Россией требовала новых дополнительных налоговых поступлений, и к 1590 году они уже в два раза превышали прежний «серебряный налог» [11: 275]. Тяжелое налоговое бремя существовало на фоне циничных действий низшей администрации, представители которой не упускали случая устроить свое благополучие за счет народа19. С течением времени социальная напряженность толь- ко усиливалась, что послужило одной из основных причин крестьянского восстания – Дубинной войны (1596–1597), которая стала одним из наиболее значимых событий в истории Финляндии.
ПЕРИОД «PITKÄ VIHA» В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ФИННОВ
Двадцатипятилетняя русско-шведская война стала первым крупным конфликтом на территории Финляндии в XVI веке. Представители старшего поколения финнов еще знали относительно спокойную жизнь предшествующего времени, и они были вынуждены приспособиться к новым условиям, смириться с утратой своего прежнего мира [8: 129]. Соответственно, в их памяти война оставила особенно глубокие раны как событие, которое полностью изменило их жизнь. Данное обстоятельство могло стать причиной, по которой отрывки действительных воспоминаний об этом трагическом времени (не образ) сохранились в народной среде вплоть до XIX века20. На их основе профессиональные историки и национальные писатели создали образ, который сыграл важную роль в процессе формирования финской нации, а коммеморативные практики 1920–1940-х годов способствовали его утверждению.
Арттури Хейкки Снельман (Вирккунен) одним из первых в финляндской историографии обратил внимание на Двадцатипятилетнюю русско-шведскую войну как период «Vanha viha» (дословно «Старая ненависть»)21. Первые упоминания «Vanha viha» относятся к 1880-м годам22, а получили развитие в его работах начала XX века23. Даже с появлением названия – концептуальной основы – не произошло значительных изменений: его использование долгое время было исключительным случаем. Вплоть до 1920-х годов финские историки (в том числе Ирьё Сакари Ирьё-Коскинен) воспроизводили «шведскую» точку зрения на рассматриваемые события. Ситуация изменилась только с появлением фундаментального двухтомника Вернера Тавастшерны24, который начал конструирование финской точки зрения на события Двадцатипятилетней русско-шведской войны, но и в его трудах присутствует «шведское» влияние предшественников.
Только в 1920–1930-х годах название «Vanha viha» получило широкое распространение, а также появилось другое – более известное в настоящее время – «Pitkä viha» (дословно «Долгая ненависть»). Тогда же стало использоваться еще одно название произошедшей войны – «rappasota», которое происходит от обозначения карельских иррегулярных формирований (rappari – грабитель, насильник, разрушитель)25. Именно в межвоенный период предпринимаются первые настоящие попытки представить финскую точку зрения на данные события, но в то время влияние политической ситуации на сочинения историков было чрезмерным. Замечу, однако, что период «Pitkä viha» никогда не был предметом прямых манипуляций со стороны историков; только некоторые работы военного времени косвенно свидетельствуют об этом26.
Период «Pitkä viha» как целостное событие не стал одним из символов прошлого для финской нации, но его отдельные элементы получили символическое значение. Сюжеты трагических событий военного времени и героических действий финских партизан в период «Pitkä viha» дополняют и усиливают действительный символ-выражение памяти о русско-шведских войнах в Финляндии – «Isoviha»27. Созданный образ обладал мощной объединительной силой, а также утверждал восприятие русских в качестве исторического врага и основного источника опас-ности28. Его важным элементом стали финские партизаны (Пекка Весайнен, Туомас Теппойнен и др.) – собственные национальные герои, которые послужили образцами для идентификации29. Только под влиянием результатов Второй мировой войны для Финляндии символы с компонентами «ненависти» были подвергнуты забвению, а свойство амбивалентности идентичности [3: 153] стало причиной актуализации других – прямо противоположных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Углубленное изучение «Pitkä viha» подводит нас к заключению, что весьма продуктивным подходом представляется исследование не Ливонской войны (1558–1583) как целостного конфликта, а каждого конкретного случая противостояния России с ее противниками. Такой подход открывает более широкие возможности для исследования как событий военного конфликта, так и его генезиса. Обращение к концепту Двадцатипятилетней русско-шведской войны (1570–1595) позволяет не только реализовать обозначенные возможности, но и обратить внимание на слабо изученные в отечественной историографии события в Финляндии и на Русском Севере, которые тем не менее оказали важное влияние на происходившую борьбу двух государств. В случае Финляндии значение войны не ограничивается «древними» событиями XVI века: исторический опыт многочисленных русско-шведских войн на территории Финляндии, в том числе периода «Pitkä viha», был использован в процессе формирования финской нации и стал одним из элементов образа «Другого», широко эксплуатировавшегося в финляндско-советских отношениях первой половины XX века.
Список литературы Двадцатипятилетние войны XVI века в истории России и Финляндии
- История Швеции / Отв. ред. А. С. Кан. М.: Наука, 1974. 719 с.
- Киркинен Х., Невалайнен П., Сихво Х. История карельского народа. Петрозаводск, 1998. 322 с.
- Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.
- Филюшкин А. И. Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. 880 с.
- Филюшкин А. И. Как изучать Ливонскую войну? (историографические заметки) // Российская история. 2015. № 4. С. 3-17.
- Шаскольский И. П. Столбовский мир 1617 г. и торговые отношения России со Шведским государством. М.; Л.: Наука, 1964. 218 с.
- Шкваров А. Г. Россия - Швеция. История военных конфликтов. 1142-1809 годы. СПб.: Алетейя: RME Group Oy, 2012. 576 с.
- Jutikkala E., Pirinen K. A history of Finland. Helsinki: WSOY, 2003. 491 p.
- Karonen P. Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521-1809. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY, 1999. 533 s.
- Kirkinen H . Karjala taistelukenttana. Karjala idan ja lannen valissa II. Helsinki: Kirjayhtyma, 1976. 376 s.
- Suomen historia 2: Keskiaika, valtaistuinriitojen ja uskonpuhdistuksen aika, kansankulttuurin juuret. (Y. Blomstedt, Ed. By). Espoo: Weilin+Goos, 1987. 414 s.
- Suomen historian pikkujattilainen. (S. Zetterberg, Ed. by). Helsinki: WSOY, 1987. 963 s.