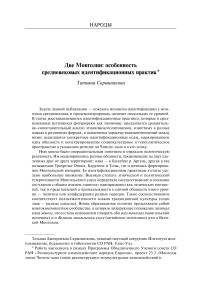Две Монголии: особенность средневековых идентификационных практик
Автор: Скрынникова Татьяна Дмитриевна
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Народы
Статья в выпуске: 2, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911908
IDR: 14911908
Текст статьи Две Монголии: особенность средневековых идентификационных практик
Задача данной публикации — показать механизм идентификации у монголов средневековья и продемонстрировать наличие нескольких ее уровней. В статье восстанавливаются идентификационные практики, которые в средневековых источниках фигурируют как значимые; предлагается сравнительно-сопоставительный анализ этнонимов/политонимов, известных в разных языках в различных формах, и выявляется характер взаимоотношений между ними; выделяются конкретные идентификационные коды, маркировавшие одну общность и конструировавшие социокультурное и геополитическое пространство в указанном регионе до Чингис-хана и в его эпоху.
Имя монгол было операциональным понятием и отражало политическую реальность. Им моделировались разные общности, проживавшие на двух удаленных друг от друга территориях: одна — в бассейне р. Аргунь, другая в так называемом Трехречье Онона, Керулена и Толы, где и началось формирование Монгольской империи. Ее идентификационным практикам в статье уделено наибольшее внимание. Высокая степень этнической и политической гетерогенности Монгольского улуса определяла сосуществование в сознании его членов с общим именем «монгол» одновременно как этнических ценностей, так и представлений о принадлежности к единой общности иного уровня — политии или конфедерации разных народов. Такое сосуществование соответствует полисемантичности знаков традиционной культуры (один знак — разные смыслы). Вновь образованная полития представляла собой многокомпонентное сообщество, в котором лидирующее положение занимал клан монгол , что и стало основанием говорить обо всех монголах (монгольский источник) и о Великом монгольском улусе (китайские источники) или о Великой Монголии.
Татьяна Дмитриевна Скрынникова, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ.
Изучение идентификационных практик средневековых монголов позволяет выделить разные уровни идентификации: гентиль-ный 1, социальный, этнический, потестарно-политический. Правда, первый уровень восстанавливается лишь на основании косвенных данных. В «Сокровенном сказании монголов» 2 нет его эксплицитного выражения, зато явно выражены уровни этнический и потестар-но-политический. Об этом свидетельствует обозначение термином монгол , во-первых, гетерогенного союза этнических групп, во-вторых, политии, являвшейся конфедерацией групп разного уровня: родов, племен, союзов. Данная надэтническая потестарно-полити-ческая структура сложилась у монголов ко времени их выхода из Приамурья.
В статье специальное внимание уделяется проблеме идентификации средневековых монголов, расселившихся на двух территориях. Первая территория расселения — по рекам Аргунь и Амур; проживавшие на ней монголы назывались usutu mongyol ( водные монголы ). Вторая территория — это Трехречье Онона, Керулена и Толы; оно обозначалось как «Великое Монгольское государство» ( Yeke Mongyol ulus ). В идентификационной практике в дополнение к упоминаемому выше денотату yeke («великая») в наименовании страны для различения монголов этой территории от монголов прародины использовался еще один идентификационный маркер — мэн-да («монголо-татары»). Причем термин мэн-да являлся символом не только внешней идентификации, но и самоидентификации, в то же время он был необходимым инструментом внешней политики в этом регионе.
Вопрос о Yeke mongyol ulus так или иначе затрагивается в большинстве монголоведческих исследований, связанных с этногенезом, политогенезом и поисками национальной идентичности. И в исторической литературе, и, благодаря ей, в обыденном сознании понятие «Великое Монгольское государство» настолько прочно закрепилось, что неясность его значения практически не осознается. Между тем этот перевод или интерпретация — порождение поздней историографической традиции; внутри оригинального текста «Сокровенного сказания» нет эксплицитного представления словосочетания Yeke Mongyol ulus . Я предполагаю, что его значение архетипично и имеет преимущественно пространственную семантику: yeke указывает на территорию вторичной колонизации, неоднократное подтверждение чему мы имеем в мировой истории и о чем будет идти речь в статье.
Две Монголии
При изучении проблемы идентификации, в том числе этнической, особое значение имеют общее имя, общий миф о происхождении и ассоциация с одной определенной территорией. Различные основания (само)идентификации порождают и различные, часто иерархизированные, идентификационные уровни, которые между собой находятся в сложных соотношениях, зачастую переплетаются и перед исследователем предстают как лабиринт связей, нуждающихся в распутывании. Исследование разных уровней идентификации может базироваться на анализе общепринятого и повсеместно распространенного самоназвания, в данном случае — самоназвания монгол . Я остановлюсь лишь на одном аспекте проблемы — на том, с какой территорией расселения соотносили себя монголы на раннем этапе своей истории.
Одно из последних исследований идентификационных практик ранних монголов — статья Павла Рыкина. Автор разделяет в ней кочевые сообщества XII–XIII веков на воображаемые и реальные ; к первым он относит монголов, ко вторым — их окружение. Свое деление Рыкин обосновывает следующим образом 3:
«Но на худой конец можно сконструировать себе как этих “окружающих”, так и то признание, которое “мы-идентичность” получает от них. Желание провести такого рода “воображаемую дихотомию”, на мой взгляд, объясняет серию оппозиций между “монголами” и некоторыми “настоящими” (возьмем это слово все же в кавычки) этническими группами в ТИМ (по поводу этой аббревиатуры см. ссылку 2. — Т. С. ). Кэрэиты, найманы, мэркиты, ой-раты, “лесные народы”, китайцы и тангуты были реальными сообществами, осознающими себя в качестве таковых; не то с “монголами”. Но раз “настоящие” этнические группы оказываются противопоставленными “воображаемой”, последняя уравнивается с ними в своей реальности. Конечно, в пору юности Чингис-хана указанные группы не могли употреблять термин mong γ ol и противопоставлять себя его носителям просто потому, что ни термина, ни монголов не существовало (выделено мной. — Т. С. ). Но ретроспективно “настоящих” заставляют это делать — возможно, еще и в наказание за то, что в свое время они оказали упорное сопротивление Чингисхану (в отличие от “монголов” ТИМ)».
Тут уместно привести слова Бенедикта Андерсона: «На самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — вообража- емые» 4. Поиски П. Рыкиным «настоящих» оснований идентификации, желание найти некий неизменный субстрат, ставший основой Империи, привели его к парадоксальной мысли: «Монгольская держава возникла как бы из ничего, на пустом месте, сшитая из этнических лоскутов Чингисханом и его сторонниками (выделено мной. — Т. С.). Она не имела прошлого, которое является излюбленным объектом манипуляций всевозможных “дискурсов идентичности”...» 5.
Точку зрения Рыкина можно назвать оригинальной, но может ли она быть признана верной? Необходимо специальное исследование, в котором нашли бы объяснение идентификационные практики средневековых монголов. Не останавливаясь подробно на интерпретации имени «монгол», замечу только, что обозначением сообщества, избравшего первого хана, Хабула, понятием qamuy mong^ol («все монголы»), безусловно, подчеркивается множество групп, составивших ту политию, которую возглавили монголы. Обратимся к ранним упоминаниям имени «монгол» в китайских источниках, значение которых для периода бесписьменной истории кочевников трудно переоценить. Имеющиеся там многочисленные свидетельства могут служить доказательством, что уже в XII веке монголы представляли собой политию, значимую не только в кочевой среде.
Широко распространена точка зрения, что территорий, на которых монголы проживали до образования империи Чингис-хана, было две . Первая — та, откуда вышли группы, которые создали ранние кочевые объединения, впоследствии составившие ядро Монгольской империи; вторая территория — та, на которой, благодаря деятельности Чингиса и его предшественников, империя начала формироваться.
О двух разных областях расселения монголов с полной определенностью писал в своем сочинении «Цзяньянь илай чаое цзацзи» («Различные официальные и неофициальные записи о [событиях] периода правления Цзяньянь») сунский автор Ли Синь-чуань 6:
«Однако два государства жили на востоке и на западе [соответственно], и обе стороны глядели друг на друга на расстоянии нескольких тысяч ли. Не знаем, по какой причине [их] объединяют и [они] получили единое наименование».
Последнее замечание требует разъяснения. Следует обратить внимание на использование китайцами, в том числе Ли Синь-чуанем, термина го («государство»). Трудно сказать, насколько монгольское социально-политическое образование на востоке, получившее до- статочную известность и сохранившееся в исторической памяти, соответствовало обозначению его данным термином; но отрицать существование на этой территории некоего сообщества, именуемого «Монгол», невозможно. Ведь не только указывается его локализация в тот период, но и отмечается его существование на протяжении достаточно длительного времени. В «Мэн-да бэй-лу» («Полном описании мон[голо]-та[тар]») Чжао Хуна (1222), основанном, судя по сопровождающим это сочинение комментариям, на сочинении Ли Синь-чуаня 7, сообщается 8:
«Существовало еще какое-то монгольское государство (мэн го). [Оно] находилось к северо-востоку от чжурчжэней. При Тан его называли племенем мэн-у. Цзинцы называли его мэн-у, также называли его мэн-гу. [Эти] люди не варили пищи. [Могли видеть ночью]. [Они] из шкур акулы делали латы, [которые] могли защитить от шальных стрел».
На этих словах хотелось бы прервать цитату, поскольку, как мне представляется, здесь заканчивается описание Монголии и монголов, находившихся к северо-востоку от чжурчженей. Эти монголы отмечались китайскими хронистами уже во времена Танской династии (618–907), сохраняли свою воинственность во времена чжурч-женьской династии Цзинь (1115–1234).
Если же продолжить цитату, то перед нами будет описание уже другой Монголии, располагавшейся к юго-западу от Цзинь 9:
«С начала [годов правления] Шао-син (1131–1162) [они] начали мятежи. Главнокомандующий Цзун-би воевал [с ними] в течение ряда лет, [но] в конце концов не смог покарать; только разделив войска, удерживал важные стратегические пункты и, наоборот, подкупал их щедрыми [подарками]. Их владетель также незаконно назывался «первым августейшим императором-родоначальником» (цзу-юань хуан-ди). Во времена цзиньского Ляна [они] причиняли зло на границах. [Как видно], они появились давно. <Здесь опускаем> Теперь татары называют себя Великим монгольским государством, и поэтому пограничные чиновники именуют их [сокращенно] мэн-да».
опущено упоминание «о нападении монгoлов на государство Цзинь: “Когда монголы (мэн-жэнь) вторглись в государство Цзинь, [они] назвали себя великим монгольским государством (да мэн-гу го). Поэтому пограничные чиновники прозвали их Монголией (Мэн-гу)” (Ли Синь-чуань. Цза-цзи, сб. 2. гл.19, стр.591)» 10. Исходя из этого текста, комментирующего поход Чингис-хана, Мункуев пришел к выводу, что «государство Чингис-хана стало именоваться “великое монгольское государство” с 1211 г.» 11. (Правильнее было бы сказать, что уже к 1211 году улус Чингис-хана назывался «Великий Монгольский улус»: ведь в тексте нет указаний на то, что это обозначение применяется впервые .) Официальное обозначение Монгольской империи как Yeke Mong^ol ulus отмечается и позже, в надписи на печати Гуюк-хана (1246–1248) на его послании папе Иннокентию IV, а также в двуязычных китайско-монгольских надписях XIV века 12. Можно предположить, — хотя прямых свидетельств тому нет, — что «первый августейший император-родоначальник» и Yeke Mong^ol ulus появились одновременно — при упоминаемой в «Сокровенном сказании» интронизации Хабул-хана в политии qamuy mong^ol . В-третьих, на этой территории по отношению к монголам помимо прежнего mong^ol ulus стало использоваться и другое идентифицирующее обозначение — мэн-да ; им подчеркивается сопряженность области вторичной колонизации монголов с территорией расселения татар.
Далее в «Мэн-да бэй-лу» находим следующее уточнение 13:
«...В период процветания государства Цзинь были созданы северовосточное вербовочно-карательное управление для обороны от монголов (мэн-у) и Кореи и юго-западное вербовочно-карательное управление для контроля над территорией татар и Си Ся. Монголы, очевидно, занимали [земли, на которых находились] двадцать семь круглых крепостей того времени, когда У-ци-май начинал дело (то есть только что вступил на престол. — Н. М. ), а границы татар на востоке соприкасались с Линьхуаном, на западе располагались в соседстве с государством Ся, на юге доходили до Цзинчжоу и достигали государства Больших людей на севере».
Здесь еще более четко констатируется существование двух Мон-голий, каждой из которых с китайской стороны соответствовало свое вербовочно-карательное управление чжао-тао сы 14. Одна Монголия располагалась к северо-востоку от чжурчженей, в непосредственной близости от воды, о чем, в частности, свидетельствуют упоминания лат из шкур «акулы» (вероятно — крупной рыбы); находилась она под наблюдением северо-восточного управления, специ- ально созданного для обороны от жителей этой Монголии, а также Кореи. Другая была предметом наблюдения юго-западного управления, образованного для контроля над территорией татар и Си Ся.
В переводе Е. И. Кычанова использованное в «Мэн-да бэй-лу» сообщение Ли Синь-чуаня о двух чжао-тао сы выглядит так 15:
«...Когда Цзинь достигло расцвета, было учреждено северо-восточное пограничное управление, Дунбэй чжаотао сы, с целью защиты от мэнгу (монголов), Гаоли (Кореи) и юго-западное пограничное управление, Синь чжаотао сы, с целью управления северными районами, удерживаемыми Западным Ся и мэнгу (монголами)».
Монголы, обозначенные одним и тем же именем мэнгу , соотносятся с землями, лежавшими и к северо-востоку, и к юго-западу от Цзинь. Северо-восточная территория имела самостоятельное значение и соседствовала с Кореей; Монголия же на юго-западе называлась yeke , то есть «великой», и связывалась с проживавшими там же татарами.
Таким образом, китайская историографическая традиция позволяет утверждать, что две Монголии существовали не только в представлениях, были не только «воображаемыми» сообществами, но и объектами реальной внешнеполитической практики Китая. Для этой практики требовались и реальные знания о кочевых соседях. Какими они были?
Монголы северо-востока
На мой взгляд, для определения первоначальной территории проживания монголов и характера их сообщества вполне хватает сведений на китайском языке. Да и исследователи сделали для такого определения достаточно. Однако о территории первоначального расселения монголов стоит сказать специально, чтобы подтвердить дополнительными к предложенным выше данными, что монголы Чингис-хана не возникли ниоткуда.
В сочинении Е Лун-ли о киданях (XII век) находим такое сообщение о мэнгули-го 16:
«Государство монгол. У государства нет правителя, которым оно управляется, как нет вспашки земли и посевов. Занимаются охотой. Их местожительство непостоянно. Кочуют в каждое из четырех времен года, единственно гоняясь за водой и травой. Питаются только мясом и кумысом и все. Не воюют с киданями, а только лишь обменивают с ними быков, баранов, верблюдов, коней, кожаные и шерстяные вещи. От них на юг до Верхней столицы Ляо более 4 тыс. ли (2000 км)».
Как видно из текста, монголы, которые опять атрибутируются термином го , и здесь соотносятся с территорией, контролируемой пограничным управлением северо-запада.
Необходимо снова сделать замечание по поводу значения термина го . В тексте Е Лун-ли, как и в тексте Ли Синь-чуаня, он не маркирует сообщество государственного уровня, поскольку у этого сообщества нет даже главы. Мне думается, что, подобно монгольскому улус , го в данном случае служит лишь указанием на то, что определенная группа людей представляет собой некую общность, объединенную одним именем. Поэтому-то в переводе В. С. Таскина начало текста звучит так: «...Прямо на севере земли киданей доходят до владения (выделено мной. — Т. С. ) Мэнгули. В этом владении нет правителя, который бы управлял народом» 17.
Значение этнонима обнаруживается у слова «монгол» и в китайских известиях о группе племен шивэй . Как было в свое время отмечено Мункуевым, «название “монгол” впервые в китайских источниках встречается в Цзю Тан шу (“Старая история [династии] Тан”, составлена в 945 г.) в форме “мэн-у ши-вэй” 18 (“монголы-шивэй-цы”)... В Синь Тан шу (“Новая история династии Тан”, составлена в 1045–1060 гг.) этот этноним передан через “мэн-ва бу” (“племя мэн-ва”)... В Цзю Тан шу и Синь Тан шу соответственно мэн-у и мэн-ва указаны среди племен ши-вэй...» 19. В переводе Кычанова сообщение о подразделениях шивэй и их локализации выглядит так 20:
«Севернее больших гор есть племя больших шивэй. Это племя живет около реки Ванцзянхэ. Истоки этой реки на северо-восточных границах тюрков, у озера Цзюйлунь. Отсюда, извиваясь, она течет на восток и протекает через границы владений западных шивэй, далее она течет снова на восток и протекает через границы больших шивэй, еще далее на востоке она протекает к северу от мэнъу шивэй».
Далее, в Суй шу (История династии Суй) сообщается 21:
«На севере есть большие горы. За горами живут большие шивэй, которые расселены по берегам реки Шицзяньхэ. Река вытекает из озера Цзюй-лунь и течет на восток. К югу от [этой реки] есть племя мэнва».
В отличие от Танского периода, когда монголы- мэнъу считались частью шивэй, здесь уже отмечается самостоятельность монголов- мэнва .
Кычанов так определяет географию объектов из цитируемых текстов:
«Озеро Цзюйлунь отождествляется с оз. Хулуньчи (Хулунь-нор, Далайнор), в которое впадает р. Керулен. Река Ванцзянхэ — это р. Аргунь, вытекающая из оз. Далай-нор, и р. Амур в среднем течении. Река Шицзяньхэ тоже должна быть Аргунью, так как сказано, что она вытекает из оз. Цзюй-лунь. В то же время, Шизянь — это явное название р. Шилки, из слияния Шилки и Аргуни образуется Амур. Поэтому в “Синь Тан шу” мы имеем дело с явным смешением Аргуни и Шилки» 22.
Для локализации первоначального расселения монголов это смешение не так уж и важно; главное — определить общее направление. Японский исследователь Комаи Есиаки пришел к выводу, что в тан-ское время часть шивэй, именовавшаяся монголами, жила по южному берегу Амура западнее впадения в него Сунгари и восточнее Малого Хингана. «Проф. Тамура Дзицудзо также отождествляет оз. Цзюй-лунь с оз. Далай-Нор. Реку Ванцзян он предлагает считать Аргунью... делает вывод, что “монголы в это время (VI–IX вв. — Е. К. ) жили кочевой жизнью в степных районах к югу от р. Аргунь”» 23. В общем исследователи определяют территорию расселение ранних монголов как расположенную на восток или на запад от Большого Хинга-на («большие горы»).
В следующем по времени написания китайском сочинении, в «Сунмо цзивэнь» («Воспоминания о Сунмо») Хун Хао (1090–1155), находим 24:
«Мангуцзы — это тот народ, который кидани в своих записях событий называли Мэнгу го “государством Монгол”... [Они] постоянно переправляются на южный берег реки и грабят. Получив отпор, они возвращаются на свою территорию. Население Цзинь только и может, что сдерживать и отражать их вторжения».
Указанием на то, что монголам для их набегов надо было переправляться на южный берег реки, подтверждается, что они жили севернее киданей и чжурчженей. Вспомним также китайский источник, сообщавший об изготовлении монголами лат из акулы, и знаменитое сочинение Плано Карпини, в котором он рассказал не только о монголах Великой Монголии, но и о народе, называвшемся су-монгал (водяные монгалы») 25. И не только исторические тексты «привязывают» монголов к реке/воде; еще одно свидетельство такой привязки — близость охотничьей и рыболовной лексики в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках 26.
Смешения, допускавшиеся ранними китайскими историографами, которые в одном контексте приводили данные о разных монголах (монголах севера и юго-запада), непонимание поздними комментаторами причин, по которым этих монголов объединяли и по которым разные монголы получили одинаковое наименование, встречаются и позднее, уже после образования империи Чингис-ха-на. Появление столь сильного соседа побуждало китайцев найти объяснение происхождению монголов, выяснять их историю. В частности, автору «Мэн-да бэй-лу» удалось узнать следующее 27:
«Татарское государство на юге находится в соседстве с племенами цзю, а слева и справа с ша-то и другими племенами. В старину существовало государство Монгус...[Я], Хун, часто расспрашивал их [об их прошлом] и узнал, что монголы уже давно истреблены и исчезли».
По мнению Мункуева, с которым нельзя не согласиться, «Мон-гус (мэн-гу-сы, mong y us) — одна из транскрипций этнонима “монгол”. Очевидно, здесь мы имеем форму этого этнонима с окончанием множественного числа -s» 28. Текст о «государстве Монгус» — довольно расплывчатый; тем не менее он дает основания предположить, что упоминание об истреблении и исчезновении относится к монголам первоначальной территории их расселения. После «истребления» они перестали играть сколько-нибудь значимую роль в регионе — в отличие от монголов, занимавших территорию вторичной колонизации по соседству с татарами. Соседство привело к появлению обозначения «монголо-татары» для этой второй общности или, как в некоторых текстах, в том числе в «Мэн-да бэй-лу», даже обозначения «татарское государство».
И еще одно сообщение китайского источника 29:
«... Ли [Синь-чуань] пишет в неуверенных выражениях, а в [ Мэн-да бэй -] лу прямо говорится о том, что прежнее монгольское государство уже было уничтожено и что нынешние монголы и есть татары. В Гу-цзинь цзи-яо и-пянь Хуан Дун-фа сказано: “...существовало еще какое-то монгольское государство (мэн-гу го). [Оно] находилось к северо-востоку от чжурчжэней. Во времена цзиньского Ляна (Хайлин вана, 1150–1161) [оно] вместе с татарами причиняло зло на границах. Только в четвертом году нашего [периода правления] Цзя-дин [17.1.1211–4.1.1212] татары присвоили их имя и стали называться Великим монгольским государством (выделено мной. — Т. С. )”».
О существовании Мэн-гу го к северо-востоку от чжурчженей говорится в прошедшем времени, чего не скажешь о политическом образовании на территории вторичной колонизации, названном здесь в терминологии переводчика, следующего традиции передавать китайское слово го как «государство», «Великим монгольским государством».
Конечно, довольно сложно с уверенностью реконструировать, как и когда совершался переход группы, возглавляемой монголами, с территории у Амура/Аргуни в район Трехречья. Можно согласиться с нижеследующим предположением Е. И. Кычанова 30:
«...Приход собственно монголов в Монголию мог произойти где-то во второй половине Х в., даже в начале ХI в. Проф. Тамура Дзицудзо обращает внимание на тот факт, что еще в середине Х в. во время походов на р. Ор-хон в район древней уйгурской столицы Карабалгасуна кидани не застают монголов в этом районе. Он приходит к выводу: “Обзор путей миграции монголов показывает, что они начали движение в конце Х — начале ХI в. с их родных мест обитания в период Тан, вероятно, на равнинах Хайлара и по среднему течению Аргуни. Как показывает легенда о Бодончаре, во второй четверти первой половины ХII в. они пересекли озеро Кулунь-Нор и вышли к нижнему и среднему течению реки Онон, где они приняли кочевой образ жизни”... Ученые осторожны в выводах, и это понятно: нет хронологии, указания точных направлений движения монгольских племен. Но важно твердое убеждение в том, что приход в Монголию где-то во второй половине Х— в начале ХI в. — очевидный исторический факт».
С большой долей уверенности можно утверждать, что период, в течение которого группы речных монголов, перекочевывавших с Аргуни-Амура в Трехречье, останавливались в степях, был продолжительным, и это отразилось в китайском тексте, изображающем их степняками-кочевниками. Движение большой группы людей с Амура в Трехречье не было мирным, земли, где приходилось останавливаться, брались с боем. Представляется, что именно эти стычки за территорию жизнеобеспечения, которые пришлось вести ранним монголам-мигрантам, китайской историографией были отождествлены с действиями всех монголов Хабул-хана и его преемников в Великой Монголии. Главное же заключается в том, что, несмотря на всю эту неразбериху с очередностью событий, а отчасти и с их сутью, в китайской историографической традиции — традиции, заметим, хорошо развитой, — упорно говорится о двух территориях, на которых проживали этнические группы с одинаковым именем — субъекты по- литической практики региона. И уже на старой территории термин «монгол» использовался, видимо, и как этноним (причем, скорее всего обозначал и малую группу — род, и более крупную — племя), и как политоним. На территории вторичной колонизации, в Великой Монголии, этноним «монгол» «зазвучал», тогда как на территории первоначального проживания, где монголы или монголы-шивэй не столь активно участвовали в политическмх событиях того времени, он уже не был «звучным»; но все же не остался незамеченным.
Хотя я уделила много внимания доказательству связи двух Мон-голий, не могу, расставаясь с этим сюжетом, не сделать еще одного существенного замечания. Даже при условии полного совпадения иероглифического написания названий обеих групп (занимавших территории первичной и вторичной колонизации) нельзя говорить о совпадении состава этих групп. Речь может идти только об одинаковом обозначении лидирующей (правящей) ее части, давшей имя и всему сообществу. Рассматриваемый период — время постоянного переструктурирования социально-политических объединений. Соответственно требовались столь же регулярное переосмысление и пересмотр границ своей общности; идентификация и самоидентификация становились целым рядом выборов; выбор же в рамках иерархии идентичностей делался по ситуации — происходила своеобразная «смена одежд». Только понимание того, что идентификация — постоянный, непрекращающийся процесс, позволяет приблизиться к адекватной реконструкции событий.
Yeke Mongyol ulus
Встречающиеся в китайских текстах обозначения монголов юго-запада как да мэнгу и да мэн-гу го требовали анализа, разъяснения и интерпретации. Замечательный российский востоковед Мункуев, знаток китайского языка и монгольской истории, попытавшийся собрать все упоминания этих терминов в китайской историографии, писал 31:
«Великое монгольское государство — да мэн-гу го, по-видимому, является переводом монгольского выражения “yeke Mongγol ulus”. В Хэй-да ши-люе мы находим название Да мэн-гу, которое соответствует монгольскому “yeke Mongγol”. Оно встречается у Плано Карпини (у него в форме “Йека-Монгал”). В ТИМ мы находим выражение “Mongqoljin ulus”, “mongqol ulus” (“монгольское государство”) (§ 202) и “olon mongqol ulus” (“многочисленное монгольское государство”) (§ 273). Из текста Цза-цзи Ли Синь-чуаня вытекает, что госу- дарство Чингис-хана стало именоваться “великое монгольское государство” с 1211 г. Хуан Дун-фа ...также сообщает, что татары в 1211 г. назвали свое государство Да мэн-гу го... В надписи на печати Гуюк-хана (1246–1248) на послании его папе Иннокентию IV, привезенном Плано Карпини и сохранившемся в архиве Ватикана, мы находим официальное монгольское название монгольского государства “Yeke Mongγol ulus”. То же выражение встречается в двуязычных китайско-монгольских надписях 1335, 1338, 1346, 1362 гг., переведенных и тщательно прокомментированных Ф. В. Кливзом».
Можно выделить несколько интересных для нас моментов в этом собрании фактов. Первый: практически все интерпретаторы Yeke Mongol ulus в китайских текстах воспринимают его как декларацию, заявление о себе некоего качественно нового сообщества, маркируемого определением «великий». Причем неважно, переводят они слово ulus как «государство» или как «народ». Мункуев, повторяю, считал, что Великим монгольским государством Монгольский улус именуется с 1211 года — года выхода монгольских войск на границу с Китаем. По имеющимся в распоряжении исследователей материалам вряд ли возможно датировать с точностью до года появление Yeke Mong^ol ulus как обозначения определенной политии к юго-западу от северного Китая; зато можно с высокой степенью уверенности утверждать, что обозначение это как обозначение монголов отмечено для первой половины XII века в связи с монголо-чжурч-женьскими стычками.
Второй момент: в монгольской традиции, в «Сокровенном сказании» («Тайная история монголов» у Мункуева), отсутствует обозначение собственного сообщества как Yeke Mongol ulus .
Последние изыскания по поводу Yeke Mongol ulus были предприняты П. Рыкиным, который, пересказав текст Мункуева 32, в примечании к нему пишет 33:
«Термин yeke mongγol ulus в зарубежной и отечественной монголоведной литературе принято передавать сочетанием “Великая Монгольская империя”, то есть понимать yeke и mongγol в качестве сложного определения к ulus. Однако в 1952 году Мостэр и Кливз, основываясь главным образом на том, что в китайских источниках употребляется выражение да мэнгу, предложили понимать yeke как атрибут mongγol, а не ulus и соответственно переводить рассматриваемый термин ‘Империя Великих монголов”. Обе интерпретации, впрочем, сходятся в понимании ulus как “империи”. Такое понимание подверг критике де Рахевильц: по его мнению, это сочетание следует переводить “Великая Монгольская нация”. Подвергнув тщательному анализу все кон- тексты употребления слова ulus в “Тайной истории монголов” и других среднемонгольских текстах, я пришел к выводу, что подлинным значением этого слова в рассматриваемую эпоху было ‘люди, народ’. Таким образом, выражение yeke mongγol ulus я понимаю как “народ великих монголов”».
Попробую предложить свое понимание. Напомню отрывок из китайского источника, где Великая Монголия упоминается в связи с ее нападениями на государство Цзинь. «Когда монголы (мэн жэнь) вторглись в государство Цзинь, [они] назвали себя великим монгольским государством (выделено мной. — Т. С. ) (да мэн-гу го). Поэтому пограничные чиновники прозвали их Монголией (Мэн-гу)», — писал Ли Синьчуань 34. Действительно, в период с 1135 по 1147 годы между монголами и чжурчженями происходили многочисленные столкновения. Причем для чжурчженей, равно как и для китайского историографа, противник не был дикой ордой, а представлял собой достаточно организованную структуру, показателем чего является как самоназвание этого социально-политического образования, переданное совершенно определенным термином Yeke mong^ol ulus , так и констатация того, что оно возглавлялось лидером — «первым августейшим императором-родоначальником» ( цзу-юань хуан-ди ), что может соответствовать монгольскому хан . Конечно, китайская историография полагает этот титул незаконным — ведь дать титул мог только китайский император и титул этот должен был быть ниже, чем у владыки Поднебесной. Но нам-то это не мешает констатировать, что внутри монгольского общества четко обозначилась тенденция к фиксации социальной стратификации и к наделению самим этим обществом определенных личностей инвеститурой. Вполне можно согласиться с выводами Кычанова в отношении носителя этого титула 35:
«Монгольский хан Аоло боцзиле (в другой транскрипции — Олунь бэйлэ) был признан чжурчженями государем государства Мэнфу (мэнфу го чжу). Однако сам Аоло не довольствовался этим и принял императорский титул Цзуюань хуанди — императора, основателя династии. Он объявил собственный девиз царствования — Тянь-син (“Подъем (расцвет), [дарованный] Небом”)... И Комаи Есиаки, и Тамура Дзицудзо (японские ученые, работавшие с китайскими текстами. — Т. С. ) сходятся на том, что под именем Аоло боц-зилэ скрывается один из предков Чингис-хана Хабул-хан».
Кроме того, представляется, что Ли Синь-чуань хотел подчеркнуть: монголы, напавшие на государство Цзинь, были именно из Великой Монголии.
Структурное оформление монгольского сообщества в политию Yeke Mongol ulus , безусловно, изменило геополитическую ситуацию в регионе. Оно дало толчок к появлению новых идентификационных моделей в дополнение к традиционным, не отменив, однако, последних. Например 36:
«В Гу-цзинь цзи-яо и-пянь Хуан Дун-фа сказано: “Существовало еще какое-то монгольское государство (мэн-гу го). [Оно] находилось к северо-востоку от чжурчжэней. Во времена цзиньского Ляна (Хайлин вана 1150–1161) [оно] вместе с татарами причиняло зло на границах. Только в четвертом году нашего [периода правления] Цзя-дин [17.1.1211–4.1.1212] татары присвоили их имя и стали называться Великим монгольским государством (выделено мной. — Т. С. )”».
Факт интересный: татары, завоеванные к этому времени, то есть к 1211–1212 годам, уже обозначались одновременно собственным именем и именем завоевателей. Но поскольку в китайской политической практике имя da-da («татары») сохраняло актуальность и, может быть, было даже престижней, для внешнеполитических отношений монголы пользовались и им. Скорее всего, и татары, и монголы сохранили собственное имя; но одновременно в идентификационной практике, определяемой конкретной ситуацией, они использовали второе или двойное имя.
Такой выбор характерен прежде всего для внешнеполитической идентификации; в монгольской же традиции, переданной «Сокровенным сказанием», нет не только словосочетания «монголо-тата-ры», но и фраз типа «монголы, они же татары». Зато двойная идентичность часто встречается в китайских источниках. Автор «Мэн-да бэй-лу» пишет о разделении татар на белых, черных и диких, относя монголов Чингис-хана к черным татарам 37: «Нынешний император Чингис, а также все его полководцы, министры и сановники являются черными татарами» 38. Этому не противоречат сведения и других китайских авторов. Так, сунский посол Пэн Дая, посетивший монголов, констатировал: «Государство черных татар называется Великой Монголией (да мэнгу)» 39. Обозначение политии, расположенной в Трехречье, одновременно разными идентификационными маркерами (Великая Монголия и монголо-татары) не представляет собой чего-то необычного. «Ситуативность самоотождествления — явление совершенно естественное и нормальное практически для любого региона и любой эпохи. Она ни в коей мере не может и не должна рассматриваться как признак какой-то “недоразвитости”, отсутствия четкого представления как о собственной идентичности, так и о разделении на “своих” и “чужих”» 40.
В «Истории Татар» Ц. де Бридиа о монголах написано: «А прочая же часть именуется Восток, в которой расположена земля тартар... и называется Моал (выделено мной. — Т. С. )» 41. Данная фраза, а также определенная синонимичность употребления в китайских источниках да мэнгу и да мэн-гу го , натолкнули меня на мысль, что оба эти выражения, как и монгольское Yeke Mongol ulus , можно понимать как обозначение территории, то есть как Великая Монголия. В этой связи хотелось бы обратить внимание на один любопытный факт, до сих пор не замеченный монголоведами: архетипическую интерпретацию геополитических понятий, первой частью которых является слово «великий». Вот что пишет Ф. Б. Успенский по поводу значения этого слова в названиях территориально-политических образований: «... модель с названием “Великий” (здесь и ниже выделено мной. — Т. С. ), по наблюдениям исследователей (О. Н. Трубачев и др.), всегда относится к области вторичной колонизации, а не к метрополии (ср. Великобритания и Бретань 42, расположенная на материке, или Великая Греция /Magna Grecia/ в Южной Италии)» 43.
Плано Карпини, рассказывая о западном походе монголов, сообщает о разорении ими Венгрии и их возвращение назад, на восток, где после победы над мордвой, «подвинувшись отсюда против билеров, то есть Великой Булгарии, они (монголы. — Т. С. ) и ее совершенно разорили. Подвинувшись отсюда еще на север, против баскарт, то есть Великой Венгрии, они победили и их» 44. Названия этих территорий — Баскарт, то есть Великая Венгрия, и Билеры, то есть Великая Булгария, всплывает у него и при перечислении земель, которые монголы себе подчинили 45. И в обоих случаях Великая Булгария и Великая Венгрия, расположенные на Средней Волге и к востоку от нее, — территории вторичной колонизации 46.
Трудно согласиться с утверждением, «что никаких “этнических” или “собственно монголов”, о которых любят рассуждать объективистски настроенные авторы, просто не существовало». И что «термин mong^ol во всех релевантных контекстах играет там (в ТИМ. — Т. С.) роль не этнонима, а своего рода классификационной категории, куда включаются группы, провозгласившие Чингиса ханом или добровольно перешедшие на его сторону, как в случае с членами коалиции Джамуки» 47. Сколь бы «искусственными» ни казались монголы Рыкину, невозможно оспорить тот факт, что в Китае были два разных управления по поддержанию отношений с монголами (севе- ро-восточное и юго-западное), а значит, объектами реальной внешнеполитической практики Китая были две Монголии. И в середине XIII века, когда Плано Карпини посетил Монголию, он отмечал 48:
«I. Есть некая земля среди стран Востока, о которой сказано выше и которая именуется Монгал. Эта земля имела некогда четыре народа: один назывался йека-монгал, то есть великие монгалы, второй назывался су-монгал, то есть водяные монгалы, сами же себя они именовали татарами от некоей реки, которая течет через их страну и называется Татар; третий народ назывался меркит, четвертый — мекрит. Все эти народы имели одну форму лиц и один язык, хотя между собою они разделялись по областям и государям.
II. В земле Йека-Монгал был некто, который назывался Чингис».
В этой известной цитате для нас важно, что в поле зрения путешественника попала дихотомия usutu mongyol 49 (водные монголы) — yeke mongyol (великие монголы). Значит, в монгольской среде она оставалась значимой и в середине XIII века. И нельзя не заметить ее таксономического аспекта: она — маркер проявившейся в XII–XIII веках иерархии территорий, заселенных монголами.
Для определения места в иерархии наибольшее значение имел переход власти и символа власти, обусловленный перенесением центра политической активности монголов из Приамурья в Трехречье. В цитированных выше китайских текстах неоднократно отмечался именно этот факт: «Их владетель также незаконно назывался “первым августейшим императором-родоначальником” (цзу-юань хуан-ди)», поскольку в китайской политической практике уже был один субъект с именем «монгол». Но, «незаконный» для Китая, акт интронизации имел вполне законные основания в монгольской традиции. Можно даже говорить о перенесении «престола» — места интронизации, о чем свидетельствует «Сокровенное сказание»: в Трехречье сформировались свои сакральные центры, в которых проходили социально значимые обряды.
Сакральная топография в источнике реконструируется через перечень географических объектов (горы, реки, источники, деревья). Горы, как и реки, были основными конструктивными элементами, структурировавшими миропорядок. Выделяются три географических объекта, с которыми были связаны жизненно важные для монголов ритуалы (интронизация, Новый год и др.): Эргунэ-кун, Хорхонах-чжубур и Бурхан-Халдун.
Вот описание интронизации Хутула-хана (третий хан в Трех-речье) 50:
«§ 57....Все Монгол-Тайчиуты, собравшись на Ононском урочище Хор-хонах-чжубур, поставили хаганом Хутулу. И пошло у монголов веселие с пирами и плясками. Возведя Хутулу на хаганский стол, плясали вокруг развесистого дерева на Хорхонахе».
Как видим, центром Хорхонах-чжубура было священное «развесистое дерево» ( saqlaqar mod ). В § 117 «Сокровенного сказания» даже специально уточняется его местоположение: «на южном склоне Хулдахаркуна, что на урочище Хорхонах-чжубур» 51. У него или под ним проходили значимые события, например, заключение отношений побратимства между Чингис-ханом и Чжамухой 52, важная встреча Чингис-хана и Мухули 53. Территориальная привязка этих событий свидетельствует о значении, которое придавалось Хорхо-нах-джибуру как сакральному центру. А тем, что Трехречье — территория вторичной колонизации — «обзавелось» таким символом легитимности, фактически декларировалось появление новой общности (yeke mongyol ulus ), которая создавала собственную властную иерархию, не зависящую от «метрополии».
Сакральные центры обладали высокой семиотической значимостью и были реальным механизмом легитимации отношений власти и властвования. Так, например, если в начале своей жизни и деятельности Чингис-хан был связан с упомянутым деревом в Хорхонах-чжубуре на ононском Хулдахар-куне, то с захватом им власти в Монгольском улусе перемещается и сакральный центр: им становится горный массив Бурхан-Халдун.
В отличие от Хорхонах-чжубура, который все-таки был в первую очередь священным местом для тайчжиутов, Бурхан-Халдун стал объектом культа не какого-либо одного рода, а более крупного этносоциального организма. И в «Сокровенном сказании», и в «Сборнике летописей» Рашид-ад-дина он часто упоминается как общемонгольская святыня. При этом Рашид-ад-дин совершенно определенно говорит о погребально-поминальном характере Бурхан-Халдуна 54:
«В Монголии есть большая гора, которую называют Буркан-Калдун. ...Чингис-хан [сам] выбрал это место для своего погребения... Из сыновей Чингис-хана место погребения младшего сына Тулуй-хана с его сыновьями Мэнгу-кааном, Кубилай-кааном, Арик-бугой и другими их потомками, скончавшимися в той стране, находится там же».
Захоронение являлось в традиционной культуре не только местом, связанным со смертью, но и местом, где все порождается (пуп земли). Кроме ежегодных ритуалов, связанных с началом года и включавших в себя обряды поклонения Небу и обряды культа предков, совершаемых в местах их захоронения, здесь проводились и обряды интронизации. Согласно «Сокровенному сказанию» (§ 123), «Темучжина же нарекли Чингис-хаганом и поставили ханом над собой» 55 в истоках реки Сэнгур, впадающей в реку Керулен, у озера Кукунор в горах Бурхан-Халдун.
Бурхан-Халдун оказал сакральное и небесное покровительство верховному правителю, стал его защитником: амин (душа), ответственная за жизнь человека, была сохранена Темучжином благодаря тому, что он соорудил на горе «дом» из веток ивы ( бургасун гэр ), который так и назывался «дом защиты» ( халхасун гэр ) 56, после чего совершил утром на вершине Бурхан-Халдуна обряд поклонения солнцу и завещал делать это своим потомкам 57. Можно даже истолковать данное место в «Сокровенном сказании» как описание обряда инициации Темучжина, после которого он приобрел сакральность — второе рождение.
В дихотомии yeke mongyol ulus — usutu mongyol сохраняли свое значение сакральные центры каждой из двух территорий. Но если в случае Хорхонах-чжубура и Бурхан-Халдуна имеются их описания и они четко локализуются, то сакральный центр «метрополии» приходится реконструировать по косвенным данным. Что это за данные? Во-первых, обозначение в источниках земли, откуда вышли предки монголов Трехречья. По преданию, они вынуждены были расплавить гору Эргунэ-кун, после чего род Чингис-хана получил право совершать новогодний обряд 58. Во-вторых, сообщение о бегстве Чжамухи, разбитого Чингисом, вместе с остатками его сторонников, в числе которых были и тайчжиуты, как раз в эту землю 59.
Представляется, что между территориями первоначального расселения и вторичной колонизации поддерживались постоянные контакты и что «исход» монголов из первой во вторую был длительным во времени, а не разовым, как сообщают о том источники. Для легитимации своей власти Чжамуха, вытесненный Чингис-ханом с территории Трехречья с ее уже закрепленными в традиции сакральными центрами, должен был провести обряд своего избрания гурха-ном также в месте, освященном традицией. Вместе со своими сторонниками он бежит на территорию прародины, в Эргунэ-кун, — вниз по течению р. Аргуни, затем у впадения в Аргунь р. Кан они останавливаются, во время остановки происходит интронизация Чжамухи, и сакральным центром, где она совершается, становится гора, вершина которой поросла лесом 60. Таким образом, и в период становления Монгольской империи память о сакральном центре первоначальной общности и о его значимости сохранялась монголами Трехречья.
Конечный мой вывод такой: употребление термина «Великая Монголия» было обусловлено необходимостью идентификационного отделения ее населения от монголов северо-востока. У этого населения были выраженная иерархическая структура и общая обрядовая система (нельзя забывать, что ритуал конструирует границы общности и подтверждает их), и поэтому трудно согласиться с Ры-киным, когда он утверждает 61:
«Еще более серьезно проблема символической унификации стояла перед руководством новообразованной империи Чингисхана, населенной «народами девяти языков» (yisu..n keleten irgen), неустойчивое объединение которых держалось только на лояльности харизматической фигуре Чингиса. Необходимо было внушить всей этой разношерстной совокупности этнических групп чувство естественности объединения под знаменами Завоевателя мира, и первым шагом в указанном направлении стало принятое по совету цзиньских перебежчиков решение окрестить недавно возникшую по-литию старым и хорошо известным китайцам термином mong γ ol ».
Не то главное, что термин этот был известен китайцам уже не одно столетие, ато, что к моменту интронизации Чингис-хана обозначение новой политии успешно применялось как монголами, так и их оседлыми соседями уже более полувека. Можно, если угодно, называть Великую Монголию «разношерстной совокупностью»; но следует помнить, что то была организованная структура, моделируемая разными уровнями идентичностей. Просто конструировать и подтверждать границы общности приходилось довольно часто в связи с постоянными их изменениями, что и отразилось в источниках. Что можно было считать маркером единства? Да то самое обозначение mong^ol[jin ] ulus , с помощью которого формировалось единое самосознание как племен и групп, прибывших с Аргуни, так и вновь включенных в общность в процессе завоевания.
И уж тем более нельзя согласиться с эссенциалистским подходом Рыкина к процессу идентификации, когда он пишет, что «под “всеми монголами” в приведенных пассажах имеется в виду то образование, которое известно китайским источникам XI–XII веков главным образом из-за его войн с Цзинь и которое, строго говоря, никакого отношения к “монголам” Чингисхана не имеет... Унас нет серьезных доказательств в пользу того, что между Амбакаем и Куту- лой, с одной стороны, и Чингисханом, с другой, существовала реальная родственная связь» 62. Для конструирования границ идентичности наличие реальных родственных связей и необязательно; чтобы обосновать легитимность власти, достаточно сознательного моделирования этих связей посредством значимых символов. Такими символами были и этноним/политоним монгол, и ритуал (поминальный, новогодний или интронизации), которым через участие в нем определенного круга лиц задавались границы общности, и место в ритуальной системе конического клана 63 (старшего и младшего).
Монголо-татары
Мне кажется, что в идентификационной практике Великой Монголии в дополнение к упоминаемому выше денотату yeke в наименовании страны для различения ее от страны usutu mongyol использовался еще один идентификационный маркер — мэн-да . Он использовался и для внешней идентификации, и для самоидентификации, был необходимым инструментом внешней политики.
Я уже высказывала предположение, что связи между «Малой» Монголией и Великой были довольно регулярными еще и в XIII веке и первая еще проявляла свою активность на политической арене в регионе 64. Монголы, перебравшиеся в Трехречье, попали в татарский ареал, и это обстоятельство, видимо, способствовало использованию ими для идентификации второго маркера — мэн-да (мон-голо-татары), когда они ощутили необходимость обособиться в реальной политической практике от «прародины». Вот чем, по-моему, и объясняется странная, на первый взгляд, информация Хуна 65:
«[Я], Хун, лично замечал, как их временно замещающий императора гован Мо-хоу каждый раз сам называл себя “мы, татары”; все их сановники и командующие [также] называли себя “мы...” <Подозреваю, что [после этого слова] пропущено три иероглифа: “да-да жень”>. Они даже не знают, являются ли они монголами (в тексте сокр.: мэн) и что это за название... По монгольскому тексту Юань-чао би-ши, монголы во всех случаях называют себя манхол, а не говорят “татары”. Здесь [монголы] разговаривают с китайцем и поэтому употребляют название, [распространенное] в Китае».
В таком контексте можно понять, почему Мо-хоу/Мухали отрицал свою принадлежность к монголам и настаивал на дифференцирующей идентичности «мы, татары» 66.
Не следует забывать и о распространенном принципе: более крупное — пусть не в реальности, ав представлении о ней — и более известное как бы вмещает в себя менее крупное и менее популярное. Для китайцев термин да-да (татары) был и более емким, и более известным, чем мэн , манхол и т. д. Хун подразделяет татар на белых, черных и диких. Поскольку народы, обозначаемые китайской историографией как татары, жили восточнее монголов и раньше стали объектом политических интересов Китая, с появлением здесь монголов потребовались различительные наименования для старожильческого населения и мигрантов. Близость, устроенность на территории и традиционные связи с Китаем первых и удаленность вторых и привели к отождествлению «белых» (то есть «лучших») татар с «аборигенными» татарами ( да-да ), «черных» (то есть «худших») — с «пришлыми» татарами ( монголами ). Нельзя также забывать об инерционности китайской традиции: несмотря на уже достаточную известность Монгольского улуса, имя «татары», которым китайцы обозначали монголов, упорно не исчезало из практики отношений Поднебесной с соседями. Хотя стоит заметить, что Хун назвал свое сочинение все-таки «Мэн-да бэй-лу», а не «Да бэй-лу» и даже не «Да-мэн бэйлу».
Монголы пришли на земли, которые были заселены народами, носившими в китайской историографии общее имя да-да , а в монгольской традиции, зафиксированной «Сокровенным сказанием», были известны как татар . Совершенно естественно, что на самых разных социальных уровнях стали практиковаться смешанные браки, в источниках часто татары называются народом, откуда монголы берут себе жен, то есть они были свойственниками по браку ( анда-куда ). Это способствовало образованию новой, смешанной, властной элиты и закреплению земель в руках монголов. Создаются союзы, объединенные представлениями об общности происхождения и культурных традиций. Вместе с тем часто отношения принимали враждебный характер, что было вызвано борьбой за главенство на данной территории. В общем, появление нового термина не только было инструментом внешнеполитической деятельности, но и фиксировало некое внутреннее состояние гетерогенного населения данной территории, свидетельствовало о рождении новой реальности — общности, находившейся в состоянии сосуществования связей союза ( богол ) и вражды.
В китайско-монгольских словарях юаньской и минской эпохи mong^ol интерпретируется как да-да, а да-да, в свою очередь, как mongYol. Полагаю, что двойная идентичность была актуальна и для монголов: вряд ли бы термин «татаро-монголы» так распространился и закрепился, если бы сами завоеватели им не пользовались. Доказательством того, что он был маркером не только внешней идентификации, но и самоидентификации, служит факт, что и на западе Евразии их обозначали этим именем. Трудно предполагать, что оно стало известно там благодаря китайцам; куда вероятнее, что его распространили сами монголы, точнее их войска. Этот закрепившийся за населением Монгольского улуса маркер был известен и понятен всем, европейские миссии в одинаковой степени оперировали при обозначении Монгольского улуса как отдельными терминами (монголы или татары), так и парным этнополитонимом (монголо-татары или, чаще, татаро-монголы). Армянский хронист Киракос Гандза-кеци употребляет сочетание «мугал татары» 67, многочисленны упоминания монголо-татар в русских хрониках.
В период острой политической борьбы имя группы, расширяющей территорию, находящуюся под ее властью, актуализируется и приобретает манифестный характер. Ав случае с Монгольской империей XIII века, периода утверждения на политической арене нового политического образования, этой группе — монголам — требовалось еще и дистанцироваться от своей прародины. Группы, перекочевавшие из «Малой» Монголии в Великую, стали пользоваться двойной идентичностью: обозначали себя и как монголы, сохраняя таким образом свою этническую идентификацию, и как татары — монголо-татары или татаро-монголы, подчеркивая этим тот аспект своей идентичности, который современным языком может быть назван геополитическим .
Иногда процесс дифференциации от монголов севера обретал такую силу, что имя «татары» получало значение рода, тогда как имя «монголы» — значение вида. Анализ употребления этих терминов Плано Карпини в контексте его изложения позволяет увидеть, что они используются, с одной стороны, как синонимы, с другой — в разных смыслах: татары — как более общее, монголы — как частное от татар. Например, Плано Карпини пишет « татары , а именно монголы (выделено мной. — Т. С. )», но никогда — наоборот. В § II, озаглавленном «О князьях татар», дается перечисление сыновей Чингис-хана и констатируется, что «от этих четырех лиц произошли все вожди монгалов» 68.
В своем труде Плано Карпини постоянно подчеркивает двойную идентичность грозных завоевателей: так, он пишет, что будет гово- рить об истории монголов, «именуемых им татарами», о деяниях татар, о стране татар 69. При этом, однако, приоритет он отдает все-таки термину «татары»; соответственно употребляет его гораздо чаще, чем термин «монголы». Например, на с. 46 Чингис-хан и его потомки названы татарами шесть раз, тогда как монголами — лишь один; на с. 47 трижды упоминаются татары и их глава Чингис-хан; на с. 68 четыре раза упоминаются татары и император татар. Примеры можно продолжить. Рассказывая о дальнейших завоеваниях монгольских войск, Плано Карпини по-прежнему чаще называет их татарами, но одновременно пишет: «...и пока то войско, именно монгалов» 70.
Известно, что на Руси Бату и его потомков называли татарами 71. Между тем, по свидетельству другого путешественника XIII века, Гийома Рубрука (1253–1255), именно на территории Руси монголы акцентировали свою этническую идентичность. Так, в тексте Рубру-ка отмечается 72:
«Прежде чем нам удалиться от Сартака, вышеупомянутый Койяк вместе со многими другими писцами двора сказал нам: не говорите, что наш господин — христианин, он не христианин, а моал, так как название “христианство” представляется им названием какого-то народа. Они превознеслись до такой великой гордости, что хотя, может быть, сколько-нибудь веруют во Христа, однако не желают именоваться христианами, желая свое название, т. е. моал, превознести выше всякого имени; не желают они называться и татарами. Ибо татары были другим народом».
Здесь мы встречаемся с редким для того периода выбором этнонима «монгол» в ущерб не менее известному даже в Западной Европе этнониму «татар». По словам Рубрука, объяснялось это тем, что «в недавних частых войнах почти все они (татары. — Т. С. ) были перебиты. Отсюда упомянутые моалы ныне хотят уничтожить это название и возвысить свое» 73. Но все-таки чаще — и это мы видим и по другим свидетельствам — двойная идентичность сохраняла свою актуальность и в Золотой Орде. Следует помнить о том, что в каждом конкретном случае наряду с ситуативностью выбора коллективной идентичности, во многом определяемой местом , совершалась еще и индивидуальная идентификация. Она имела значения и в средневековом мире. Вспомним свидетельство китайского автора, по словам которого Мухули относил себя к сообществу татар, хотя, как мы знаем, был включен в число первых лиц, маркировавших общность «монгол», о чем свидетельствует «Сокровенное сказание» 74:
«§ 202. Когда он направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами, то в год Барса (1206) составился сейм и собрались у истоков реки Онона. Здесь воздвигли девятибунчужное белое знамя и нарекли ханом — Чингис-хана. Тут же и Мухалия нарекли Го-ваном... Чингисхан назначил девяносто пять (95) нойонов-тысячников из Монгольского народа, не считая в этом числе таковых же из Лесных народов. § 203. Однако в этом числе полагаются и ханские зятья».
Частотность употребления термина «монгол» различна и в двух основных средневековых источниках сведений о монголах: в «Сокровенном сказании» и «Сборнике летописей». У Рашид-ад-дина идентичность вообще прописывается более подробно, поскольку монгольская династия правит в чужой среде , следовательно, здесь необходимо точное удостоверение принадлежности к группе, стоящей у власти. Поэтому именно у него мы видим подробное разноуровневое моделирование более или менее настоящих границ общности «монголы» (например, нируны — дарлекины ). «Сокровенное сказание» обосновывало легитимность власти в своей среде ; в данном случае не было необходимости моделировать общность — для ее членов она была очевидна, и представители своей группы ( монголы ) называются «наши» (§ 195 — bidan-u qara’ul ) 75 или «мы, монголы» (§ 108 — bida mongqol ) 76. Неоднократны упоминания наших предков, наших отцов и дедов, которых губили татары 77.
Если иметь в виду, что местоимение «наши» использовалось для очерчивания и фиксации границ своей общности, то резонно предположение, что перечисляемые в памятнике этнические группы еще не входили в политию, обозначаемую как монголы. Так, в § 120 отмечается, что «к нам» присоединились другие племена 78, а ниже — что они «сдались нам» 79. Этим подтверждается, что часто встречающаяся в тексте идентификационная категория «наши» указывает на монголов в узком смысле, и ее функция — отделение «своих» от внешнего мира.
Употребление по отношению к сообществу личных и притяжательных местоимений первого лица множественного числа (мы, наши) в сочетании с общепринятым и повсеместно распространенным самоназванием (монголы) показывает нам базовой уровень идентификационных практик. На основании его мы можем судить о наличии или отсутствии групповой идентичности и о ее изначальных свойствах, ответить на вопрос, какой из аспектов самоидентификации актуализируется рассматриваемой лексемой. И это уже не толь- ко (даже может быть не столько) этнокультурный аспект, сколько этнополитический. Тем самым манифестируется гетерогенное политическое сообщество, возникшее благодаря завоевательной деятельности лидера и носящее имя его этнической общности. Ибо для традиционного сознания, характерной чертой которого являлась нерасчлененность, разделение этнического и политического компонентов затруднено.
Безусловно, с усилением Монгольского улуса, завоеванием татар и включением их в конфедерацию, возглавляемую монголами, значение этнофора «монгол» возрастает. Но все равно трудно, опираясь только на единичные свидетельства источников, как это делает Ры-кин, согласиться со следующим его мнением 80:
«К тому же требовалось покончить с официальной классификацией цзиньцев, объединявших все степные народы под рубрикой “татары”, путем демонстративного переименования их в “монголов” и разработки эффективных способов сделать новую номинальную идентичность значимой для тех, кому она была приписана. Номинация же “татары” подлежала ликвидации хотя бы потому, что она, безусловно, ассоциировалась с подчиненным и зависимым по отношению к Китаю положением разделявших ее групп».
В действительности двойная идентичность еще долго имела значение, поскольку процесс идентификации позволял одновременно использовать разные маркеры и не было необходимости в переименовании. Более того, при отсутствии государственных институтов, моделировавших бы границы общности, нежесткость этих границ даже инспирировала многоуровневую идентичность. Сначала группы, переселившиеся с Аргуни в Трехречье, обозначались этнонимом лидеров: монголы. Затем, с усилением нового образования на политической арене, стали пользоваться двойной идентичностью: обозначали себя и как монголы, сохраняя таким образом свою этническую идентификацию, и как татары (черные), монголо-татары или татаро-монголы. В свою очередь татары, завоеванные и включенные в новую общность, вынуждены были называться монголами. Использование обеими группами двух этнонимов вполне объяснимо и обусловлено конкретной политической практикой. Сначала монголы присваивают имя аборигенного населения, чтобы отделить себя от населения прародины, затем, по мере того как они усиливаются, их имя переносится на все население и на территорию его проживания. Возможно, идентичность «татары» преимущественно актуализировалась как раз при самоидентификации, так как усиливала диф- ференциацию (например, в случае самоидентификации Мухули). Для немонголов же более важной была заявка на принадлежность ко вновь образованному союзу во главе с монголами; поэтому и закрепляется обозначение «мэн-да».
Необходимость употребления двойного имени для обозначения Монгольского улуса отпала, на мой взгляд, с угасанием значения территории первоначального расселения монголов в бассейне Амура, знание о которой сохранилось лишь в воспоминании о миграции оттуда первопредков. Видимо, отток с Амура и Аргуни был столь значительным, что оставшимся так и не удалось создать сколько-нибудь значимое объединение, что способствовало бы сохранению прародиной имени Монголия или Малая Монголия, как то было в других регионах. Кстати, если вспомнить судьбу таких известных парных названий, как Великобритания — Британия, Великая Венгрия — Венгрия, Великая Болгария — Болгария, Великая Русь — Малая Русь, то и тут мы увидим большие различия в результатах исторического развития: значение Великобритании сохраняется и по сей день, тогда как первоначальное обозначение всех островов севернее Галлии как Британии вышло из употребление; Великие Венгрия и Болгария исчезли с карты Евразии; имя же «Малороссия» уцелело — как и определение «великорусский» в разных контекстах.
Трудно ожидать от человека средневековья полного осознания идентификационных практик. Перечтем, однако, следующий текст Рашид-ад-дина 81:
«Из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами. И те различные роды полагали свое величие и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны под их именем, вроде того как в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, поскольку они суть монголы, — [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, — все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени. Их теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов и именуются [этим именем], — а это не так, ибо в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен. Так как в отношении их была [проявлена] божественная милость в том смысле, что Чингиз-хан и его род происходит из племени монголов и от них возникло много ветвей, особенно со времени Алан-Гоа, около трехсот лет тому назад возникла многочисленная ветвь, племена которой называют нирун и которые сделались почтенны и возвеличены, — [то] все стали известны как племена монгольские, хотя в то время другие племена не называли монголами».
В этой цитате мы находим вполне современное объяснение не только моделирующих возможностей этнонима/политонима, но и значения этого моделирования в политической практике. Народам, граничившим с Китаем, включение их общностей в более крупную конфедерацию, с одной стороны, давало покровительство сильного суверена, защиту от бесконечных нападений воинственных соседей, с другой, обеспечивало жизненно важные торговые связи с земледельческим соседом, Китаем, который обычно не вступал в такие связи с мелкими слабосильными кочевыми группами.
* **
Было бы наивно полагать абсолютно точной конфигурацию общностей, которые, по данным исторических источников, могут быть отождествлены с общностями этническими. В случае же с монголами с большой долей уверенности можно говорить о том, что в разных регионах и в разное время конструирование границ их общности значительно менялось. Необходим дополнительный анализ, тщательное сравнение всех имеющихся в нашем распоряжении данных. Между тем исследователями сведения, почерпнутые из источников, содержащих этнонимы, нередко соединяются в некий реестр и интерпретируются как реальная этническая композиция — достоверная модель единой общности «монголы». При этом упускается из виду то важное обстоятельство, что одно и то же имя могло выступать в роли гентильного маркера ( yasun, urug, obog ), этнического ( obog, irgen, ulus ) или потестарно-политийного ( ulus ). И только первый из них отличается некоторой гомогенностью («лицом-к-лицу»); два вторых не просто гетерогенны сами по себе, но еще и употребляются в сходных контекстах, что дополнительно затрудняет их интерпретацию.
Высокая степень этнической и политической гетерогенности Монгольского улуса приводила к тому, что в сознании его жителей, носивших общее имя «монгол», этнические ценности групп, воспринимавших себя, говоря современным языком, как этнокультурное целое, сосуществовали с представлением о принадлежности к единой общности иного уровня — политии как конфедерации разных народов. Генеалогии, география расселения и физические особенности, обычаи, одежда и прочие характеристики неплохо реконструируются на основании средневековых источников; а вот убедительно воссоздать реальный процесс идентификации в тот период, составить исчерпывающий перечень ее составных элементов вряд ли возможно. Ибо «этнические» категории на самом деле применялись к этнически гетерогенным группам. Тот же Рашид-ад-дин констатировал 82:
«Так как внешность, фигура, прозвание, язык, обычаи и манеры их были близки у одних с другими и хотя в древности они имели небольшое различие в языке и в обычаях, — ныне дошло до того, что монголами называют народы Хитая и Джурджэ, нянгасов, уйгуров, кипчаков, туркмен, карлуков, калачей, всех пленных и таджикские народности, которые выросли в среде монголов. И эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя монголами».
Источники отражают актуальность и гентильного, и этни-ческoго, и потестарно-политического самосознания. Разные уровни совмещались, что было вызвано постоянным переструктурированием краткосрочных военных союзов, возникавших зачастую и на добровольной основе, а не только за счет включения завоеванных соседей. Если выражения qamug mong^ol, olon mong^ol («все монголы», «много монголов») еще содержат признаки гентильного самосознания, поскольку акцентируют момент слияния родственных («монгольских») родо-племенных групп, то общий этноним для всех племен, населяющих Великую Монголию — Yeke mong^ol ulus, свидетельствует о формировании одновременно этнического и потес-тарно-политического самосознания, то есть о более высоком уровне самоидентификации. В политии Yeke Mong^ol ulus собираются qamuq mong^ol («все монголы»), qamuq mong^ol-tayijiud («все монголы и тай-джиуты») и избирают qamuq-un qahan («всеобщего хана») — ulus-un ejen («владыку/господина [всего] народа»). Гентильная категоризация подтверждает прежде всего легитимность власти верховного правителя: он избран всеми, входящими в состав Yeke mong^ol ulus, или Великой Монголии. И пусть китайский источник твердит о незаконности присвоения правителем высочайшего имени — актом интронизации Хабул-хана отмечается начало нового, иного, этапа монгольской истории. Об этом фактически говорит и сам китайский хронист, когда пишет: «...Монголы некогда переменили период правления на Тянь-син и [их владетель] назвал себя “родоначальником династии и первым просвещенным августейшим императором” (Тай-цзу юань-мин хуан-ди)» 83.
Гентильный смысл имени «монгол» сохраняется, но рядом с ним возрастают другие значения этого имени. Во-первых, социальное значение — когда термин «монголы» обозначает военную дружину под руководством вождя; появление дружины приводит к расширению границ общности и соответственно придает новую роль самому термину (но это тема специального исследования). Во-вторых, обозначение союза этнических групп, когда воины-дружинники ( нукеры, богол ) включаются в общность (и в результате термин богол из маркера подчинения сподвижника превращается в маркера социальной структуры групп, вошедших в союз, но сохраняющих свое собственное имя наряду с именем союза), а усиление гетерогенности этой общности, ее укрупнение и укрепление как раз и способствуют активному проявлению другого уровня идентификации — уровня, на котором формируется этническое сознание. В-третьих, значение потестарно-политическое — когда термин прилагается уже к политии, являющейся конфедерацией групп разного уровня (родов, племен, союзов). В этой политии есть властная элита, у нее есть определенная этническая окраска — и вот уже актуализируются термины, обозначающие эту элиту: кият , борджигин . Они используются для противопоставления элиты группам, не принадлежавшим к Золотому роду , так как термин «монгол» для этого уже не годится: он перестал быть только этнофором, обозначает более крупные по-тестарно-политические единицы и территорию их проживания. Но так как расширение политии побуждает очертить ее новые границы, термин «монголы» выступает в новом качестве — в паре с другими, и посредством этого подчеркивается или более низкий, гентильный, уровень идентификации, или более высокий — уровень конфедерации племен, надплеменной политии.
Что же касается «размытой и аморфной кочевой идентичности», то стоит напомнить: современный человек тоже постоянно сталкивается с непростым вопросом, какое основание избрать для самоидентификации — «кровь», «почву» или культуру. Потому-то в идентификационной практике как индивидуум, так и группа/группы всегда пользовались и продолжают пользоваться многоуровневой номенклатурой: от гентильной до гражданской. И каждый уровень идентификации важен, ни один выбор «здесь и сейчас» совершенно не исключает возможности иного выбора в другом месте и в другое время. Тем более сложно — да практически и невозможно — в деталях воссоздать реальную историческую картину идентификационных практик средневековых монголов; рассчитывать можно лишь на выявление некоторых основных тенденций их этно- и культуро-генеза.
Мне представляется, что очень важно помнить о постоянных изменениях самосознания, этнического в том числе, под влиянием обстоятельств, побуждающих к пересмотру границ группы или сообщества и членства в них. Средневековье в Восточной Азии — период значительных подвижек в социально-политической структуре, сопровождавшихся разрушением одних социальных институтов, появлением других и соответственно изменениями в поле культуры. В результате вектор идентификационных практик не мог оставаться постоянным, утверждались представления о многих разных общностях в меняющемся мире, заново моделировались дискурсы строительства политий.
Я постаралась выявить лишь некоторые формы идентичностей — этих сложных и динамических конструктов, — отразившиеся в дискурсе социополитических практик в рассматриваемый период, и показать, как в периоды нестабильности общественной жизни происходит постоянная смена приоритетов идентификации. Для идентификационных практик — как внутренних, так и внешних — границы сообществ в силу их «воображаемости» не могут представлять и никогда не представляют подобия прокрустова ложа. Ф. Б. Успенский специально выделил амбивалентность (различение — неразличение) процесса идентификации, когда писал о том, что в скандинавской традиции русские часто идентифицировались с греками: «Неразличение народов языковым сознанием — не менее важный культурный факт, чем наличие их строгого обособления» 84 .
Список литературы Две Монголии: особенность средневековых идентификационных практик
- Рыкин П. Создание монгольской идентичности: термин «монгол» в эпоху Чин-гис-хана//Вестник Евразии, 2002. № 1 (16). С. 68.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. С. 31.
- Кычанов Е. И. Монголы в VI -первой половине XII в.//Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. С. 145.
- Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). Факсимиле ксилографа. Пер. с китайско го, введ., коммент. и прилож. Н. Ц. Мункуева. М., 1975. С. 51.
- Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи). Пер. с китайского, введ., коммент. и прилож. В. С. Таскина. М., 1979. С. 305.
- Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. С. 174-175.
- Карпини Иоанн де Плана, архиепископ Антиварийский. История монгалов, име нуемых нами татарами. М, 1997. С. 43.
- Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. 1. Л., 1975. С. 391.
- Линь Кюн-и, Мункуев Н. Ц. «Краткие сведения о черных татарах» Пэн Да-я и Сюй Тина//Проблемы востоковедения, 1960. № 5. С. 136.
- Ведюшкина И. В. Формы проявления коллективной идентичности в Повести временных лет//Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до нача ла Нового времени. М., 2003. С. 309.
- Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францискан ской миссии 1245 года. Критический текст, перевод с латыни «Истории Татар» брата Ц. де Бридиа С. В. Аксенова и А. Г. Юрченко. Экспозиция, исследование и указатель А. Г. Юрченко. СПб., Изд-во Евразия, 2002. С. 100
- Успенский Ф. Б. Граница, дорога, направление в представлении древних скандинавов//Антропология культуры. Вып. 1. М., ОГИ. 2002. С. 226
- The Secret History of the Mongols. A Mongolian epic chronicle of the thirteenth century. Translated with a historical and philological commentary by Igor de Rachewilitz. Brill, Leiden -Boston. 2004. P. 296
- Карпини Иоанн де Плана, архиепископ Антиварийский. История монгалов, именуемых нами татарами. М, 1997. С. 51
- Петрухин В. Я., Раевский Дм. С. Очерки истории наро дов России в древности и раннем средневековье. М., 2004. С. 182, 199
- Ключевский В. О. Великая и Малая Русь//Терминология русской истории. Лекция I. Собр. соч. Т. VI. М., Мысль, 1989. С. 100
- Рашид-ад-дин. Сборник лето писей. Т. 1. Кн. 1. М.-Л., 1952. С. 101-102
- Козин С. А. Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г. М.-Л., 1941. С. 85.
- Rachewiltz I. de. 1972 Index to the Secret History of the Mongols/Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. Bloomington, 1972. Vol. 121. P. 40, § 103.
- Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. С. 154-155.
- Свод этнографических понятий и терминов. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., Наука, 1986. С. 64
- Гандзакеци Киракос. История Армении. Пер. с древнеармянского, предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М., 1976. С. 153.
- Рубрук Гильом де. Путешествие в восточные страны. М., 1997. С. 112-113.
- Горелов М. М. Этнополитическая идентичность и традиции историописания в Англии XI-XII вв.//Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. М., 2003. С. 119-120