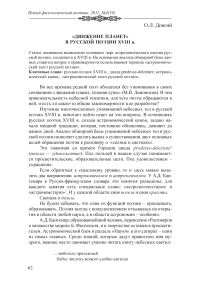"Движение планет" в русской поэзии XVIII в
Автор: Довгий Ольга Львовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: История литературы
Статья в выпуске: 4 (19), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению основных черт астрономического канона русской поэзии, созданного в 18 в. На основании анализа обширной базы данных ставится вопрос о правомерности использования термина «астрономический текст русской поэзии».
Русская поэзия xviii в., диада prodesse-delectare, астрономический канон, "астрономический текст русской поэзии"
Короткий адрес: https://sciup.org/14914315
IDR: 14914315
Текст научной статьи "Движение планет" в русской поэзии XVIII в
Во все времена редкий поэт обходился без упоминания в своих сочинениях «движения планет, течения луны» (М.В. Ломоносов). В чем привлекательность небесной тематики, для чего поэты обращаются к ней, и есть ли какие-то общие закономерности в ее разработке?
Изучение многочисленных упоминаний небесных тел в русской поэзии XVIII в. помогает найти ответ на эти вопросы. В сочинениях русских поэтов XVIII в. создан астрономический канон, задано начало мощной традиции, которая, постоянно обновляясь, доживет до наших дней. Анализ обширной базы упоминаний небесных тел в русской поэзии позволяет сделать вывод о существовании двух основных целей обращения поэтов к разговору о «солнце и светилах».
Это знакомая со времен Горация диада prodesse-delectare1 ( польза — удовольствие ). Под пользой в нашем случае понимаются просветительские, образовательные цели. Под удовольствием – украшение.
Если обратиться к смысловому уровню, то и здесь можно выделить два направления: астрономическое и астрологическое . У А.Д. Кантемира в Русско-французском словаре эти понятия разведены; для каждого занятия есть специальное слово: «астрологичествую» и «астрономствую» 2. И у каждой области своя польза и своя красота .
Сначала о пользе .
Не будем забывать, что одна из функций поэзии – просвещать, образовывать. Поэзия всегда с воодушевлением отзывалась на открытия в области любой науки, а в области астрономии – особенно.
А.Д. Кантемир, образованнейший человек, переводчик «Разговоров о множестве миров» Б. Фонтенеля, и в творчестве оставался просветителем. Астрономический блок в разделе «Науки» в его сатирах – один из самых главных. Среди знаний, которые дадут правителю имя мудрого, важное место занимает умение читать книгу небесных светил:
…любитель прилежный
Небес числить всякого удобно светила
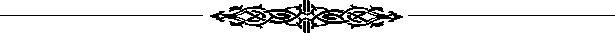
Путь и беглость и того, сколь велика сила
Над другим; в твари всему знать исту причину – …Мудрым зваться даст тебе и, может быть, к чину Высшему отворит вход…
(Сатира 7. «О воспитании»)
Учение Коперника в первой половине XVIII в. в России еще относилось к числу широко обсуждаемых тем, и поэзия активно на эти обсуждения откликалась. В первой сатире Кантемира вульгаризован-ное изложение учения Коперника вложено в уста врага наук Силва-на – и эта пародия, иронически поданная критика должна была действовать особенно сильно:
К чему звезд течение числить, и ни к делу, Ни кстати за одним ночь пятном не спать целу, За любопытством одним лишиться покою, Ища, солнце ль движется, или мы с землею?..
Этот кантемировский вопрос, «солнце ль движется или мы с землею», окажется живым на протяжении всего XVIII в., будет не раз повторен в поэзии, в различных риторических аранжировках. Приведем лишь два примера. Если у Кантемира вопрос дан умышленно бегло, как нечто, на чем грех и внимание достойному человеку заострять (напомним: это речь мракобеса Силвана), то у Ломоносова и Пушкина это уже целый сюжет, достойный отдельного стихотворения, целая риторическая игра.
М.В. Ломоносов рассказывает о споре Коперника и Птолемея, прибегая для разрешения проблемы к гастрономической аналогии:
Случились вместе два Астронома в пиру
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой, что Солнце все с собой планеты водит:
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?» Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такова, Которой бы вертел очаг кругом жаркова?»
(«Случились вместе два астронома в пиру…»).
У А.С. Пушкина речь о споре двух древнегреческих философов – Зенона Элейского и Диогена Синопского:
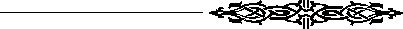
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит: Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей.
(«Движение»)
Даже беглого взгляда на эти тексты достаточно, чтобы увидеть, что тема правоты Коперника, столь живая и нуждающаяся в защите у Кантемира и Ломоносова, ко времени Пушкина, потеряла свою остроту настолько, что перешла в разряд риторических общих мест и используется как надежный инструмент аргументации в споре на другую научную тему. У Пушкина Коперник, о котором идет речь Кантемира и Ломоносова, даже уступает место Галилею.
В сочинениях М.В. Ломоносова Коперник – один из главных героев. На его противников обрушивается шквал ломоносовской иронии, доходящей до сарказма:
Когда бы Аристарх завистливым Клеантом Не назван был в суде неистовым Гигантом, Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти, Круг центра своего, круг солнца обнести; Дерзнувшим научать, что все домашни боги Терпят великой труд всегдашний дороги; Вертится вкруг Нептун, Диана и Плутон И страждут ту же казнь, как дерзкой Иксион; И неподвижная земли богиня Веста К упокоению сыскать не может места… …Оттоле землю все считали посреде.
Астроном весь свой век в бесплодном был труде, Запутан циклами, пока восстал Коперник, Презритель зависти и варварству соперник.
В средине всех планет он солнце положил, Сугубое земли движение открыл.
Однем круг центра путь вседневный совершает, Другим круг солнца год теченьем составляет, Он циклы истинной Системой растерзал
И правду точностью явлений доказал…
(«Письмо о пользе стекла…»)
Интересно, что у Ломоносова появится рифма «Коперник-соперник», которую через два века повторит В. Маяковский (см. «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»).
Как видим, из сочинений Ломоносова можно получить довольно полные представления о строении солнечной системы, выучить названия планет.
В сознании людей постепенно складывался (и не без участия поэтов) определенный астрономический ликбезный минимум (разумеется, сильно различавшийся в зависимости от образования) – у Кантемира даже невежественный Силван из первой сатиры знает, что:
В часовнике можно честь на всякий день года Число месяца и час солнечного всхода…
Вспомним брошенное как бы вскользь астрономическое замечание в стихотворении Пушкина «Под каким созвездием…»:
…Ближнего Меркурия, Аль Сатурна дальнего…
Именно такие детали и позволяют судить об уровне астрономических знаний в обществе.
Когда был открыт Уран, это не осталось незамеченным в поэзии – на событие откликнулся С.С. Бобров в своей «Столетней песни…»:
Так в области светил возжженных
Сокрыт был искони Уран, –
Хоть тьмы очей вооруженных
Пронзали бездны горних стран;
Но не нашли еще Урана.
Родился Гершель, – вдруг блистает
Мир новый посреди миров;
Он в царстве Солнца учреждает Знакомство будущих веков С Ураном, как с пришельцем неким…
Если говорить о пользе астрологии в поэзии – то здесь, как правило, речь идет о предсказаниях перед каким-то событием и о том, что произошло в результате невыполнения предсказания. Хотя астрологам часто была уготована незавидная доля быть повешенными поближе к звездам3, тем не менее ориентацию на течение небесных тел именно в астрологическом ключе в русской поэзии нельзя отрицать.
Рифма «зодиак – знак» возникла не случайно. Книгу течения небесных светил читали очень внимательно, стараясь эти знаки расшифровать и понять, что они сулят России и людям. Русской поэзии был очень интересен человек, способный сказать о себе:
Смотрящий в ночь сию на круги я небесны,
Постигнул таинства для смертных неизвестны…
(М.М. Херасков. «Россиада», песнь шестая)
Уже в «Слове о полку Игореве» недоверие к небесному знаку приводит к плачевным последствиям. У М.М. Хераскова в песни седьмой «Россиады» встретим описание похожего случая: к Иоанну приходит «почтенный некий муж, украшен сединою» – астролог, предсказывающий грядущие события на основании наблюдения движения небесных тел.
Небесные знаки говорят о том, что Иоанн выбрал неблагоприятное время для начала военных действий. Астролог советует отложить поход на месяц ( на лунный оборот ) – иначе не миновать огромных человеческих потерь:
…И тако рек ему: Гряди против Татар!
Однако укроти на время ратный жар:
Их пламень, Государь, в их сердце не простынет, А слава и тебя конечно не покинет;
Свое стремление, свой подвиг удержи, На лунный оборот поход свой отложи;
Не мерзостный подлог в мои слова вмещаю:
Для блага общаго я истинну вещаю.
Когда ты поспешишь желанною войной, Войною на тебя возстанетъ жар и зной; И должен братися не с робкою Ордою, Но с воздухом, с огнем, с землею и водою. О Царь! Движения военны потуши;
Бедою общею для славы не спеши…
Иоанн не послушался волхва. Разумеется, все произошло так, как предсказывал маг, – и вот запоздалое раскаянье царя:
Я воинов моих привел в сии пределы: Бросай против меня молниеносны стрелы! Я старца мудраго советы пренебрег, Который в дерзости меня предостерег… Удовольствие, украшение.
В европейской (да и гораздо более ранней) традиции было использовать планетарные мотивы в декоративных целях: для украшения зданий, парков, в нарядах аристократии и т.д. Астрономическая метафорика щедро украшала и поэтические сочинения. Россия стремится и здесь следовать примеру Европы.
В словесном украшении небесная метафорика пришлась российским поэтам очень кстати. В декоративных целях хорошо работает рифма. Имя императрицы Елизавета как будто нарочно создано для всевозможных изощрений с небесной лексикой – света , планета – и для выведения, в том числе и на основе рифмы, благоприятных прогнозов о царствовании Петровой дщери.
Урания , муза астрономии, у Ломоносова неоднократно рифмуется с Россией4 (кстати, и эта рифма не случайна: Россия находится под знаком Водолея, а покровитель Водолея – Уран):
Сие гласит тебе Россия
И купно с ней наук собор.
Предведущая Урания
Возводит к верьху быстрый взор, Небесны беги наблюдает И с радостию составляет Венец тебе из новых звезд…
(«Ода на день рождения Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны… 1746 года»)
Постоянное упоминание звезд и планет в поэзии способствовало тому, что люди (и, в первую очередь, поэты) начали и мыслить в категориях астрономической, зодикальной метафорики. Вместо «пришла зима или весна» поэты стремились употребить зодиакальную лексику – это считалось хорошим тоном и постепенно стало общим местом в словесном украшении:
Кантемир:
Послыша весну, уж ластовицы
Появились,
Уж журавли и ины птицы
Возвратились;
Солнце с барашка уж на близнята Преступило5...
Необычное обозначение знака Близнецов «Близнята» 6 мы встретим и в более поздней поэзии – например, у В. Майкова в «Елисее»:
Уж Феб чрез зодиак Близняток проезжал, Когда мой Елисей от бабушки сбежал…
Строки из «Рассвета полночи» С. Боброва предвосхищают появление через 2 века «огнегривого льва»:
Едва золотогривый Лев
В свое приемлет ложе Солнце
И с раскаленного языка
Испустит знойные истоки…
Граф Д.И. Хвостов – один из русских поэтов, последовательно проводивших астрологическую тему в своем творчестве7. Вот как выглядит в его изображении смена времен года:
Уже истощеваясь в силах,
В обратный путь стремится Лев ;
Уже к Неве спустилась Дева –
Посланница святых небес, Она Отечеству обильно Подаст богатство, славу, радость…
(«Июль в Петрополе 1831 года»)
Г.Р. Державин тоже определяет время движением солнца через зодиак:
Но в ясный день, средь светлой влаги, Как ходят рыбы в небесах, И вьются полосаты флаги…
(«Водопад»)
Примеры можно множить и множить.
В ходу у поэтов были формулы, вроде «звезда судьбы», всевозможные планетарные сравнения. Вот два примера из «Россиады» М.М. Хераскова:
Звезда его судьбы на небе не горит, Она, сокрыв лучи, на Иоанна зрит…
… Сей муж, разумный муж 8, в его цветущи лета, Казался при дворе какъ некая планета , Вступающа в свой путь от незнакомых мест И редко зримая среди горящих звезд.
Ср. у Пушкина:
…И мимо всех условий света Стремится до утраты сил, Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.
(«Портрет»)
Одним из основоположников астрономического канона русской поэзии является М.В. Ломоносов; астрономическая символика и метафорика в его сочинениях заслуживает отдельного разговора. Мы уже касались просветительского ее эффекта. Не менее важна и функция украшения.
Для похвалы императрице Ломоносов часто использует астрономический риторический инструментарий. Вот «Надпись на иллюминацию, представленную в день коронования Ее Величества апреля 25 дня 1752 года, на которой изображен был зодиак с вешними зодиями и с текущим посреди его солнцем…»:
Державства твоего светящий зодиак Повседни кажет нам благополучный знак . И ныне, празднуя, как ты венчанна богом, Венчанну зрим тебя спокойствия залогом. Нам радуга твое приятие венца, Поставлена весной в созвездие Тельца , Довольство, и покой, и радость изъявляет, И здравие тебе, и крепость обещает.
Ликуя, веселясь мы празднеством твоим, Усердно все в тебе усердно сердце чтим…
Описывая иллюминацию, Ломоносов перечисляет качества, издавна закрепленные за знаком Тельца (довольство, надежность, крепость, покой), и переносит их на все царствование императрицы. Мы видим, как астрономические знания на поле украшения необходимо дополняются астрологическими характеристиками, придающими всему сочинению необходимый эмоциональный тон.
Астроном Ломоносов в своих поэтических панегирических сочинениях выступает и в роли национального астролога, давая, по сути, добрый астрологический прогноз всей стране по моменту коронации новой монархини.
Связь качеств знака зодиака с событиями человеческой жизни и судьбы всей страны, неизбежно вводящая и астрологическую составляющую, с легкой руки Ломоносова закрепится в русской поэзии как излюбленный прием.
Вот пример из «Россиады» – М.М. Херасков использует ту же риторическую тактику, что и Ломоносов:
Венчалась класами Церерина глава,
И солнце в небесах горело в знаке Льва ;
Сей знак, щастливый знак9, предзнаменует войску И храбрость пламенну, венец и ветвь геройску.
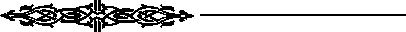
И напоследок о том, как Ломоносов помогает найти ключ к разрешению проблемы старого-нового стиля, которая создает немало проблем астрофилологам.
В «Оде на день рождения ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны… 1746 года» Ломоносов описывает по- ложение планет на момент рождения монархини:
Я избрала счастливой знак Надежду показать нелестну: В пространну высоту небесну Прилежно возведите зрак.
Се солнце бег свой пременяет И к вам течет умножить день, На север взор свой обращает И оным прогоняет тень, Являя, что Елисавета В России усугубит света10 Державой и венцем своим, Ермий , наукам предводитель, И Марс , на брани победитель, Блистают совокупно с ним Там муж, звездами испещренный, Свой светлый напрягает лук, Диана стрелы позлащенны С ним мещет из прекрасных рук. Се небо показует ясно .
Коль то с добротами согласно Рожденныя в признаках сих: От ней геройство с красотою Повсюду миром и войною Лучи пускают дней златых.
В отдельном издании 1746 г. Ломоносов сделал несколько сносок, расшифровывающих высокую концентрацию астрологической символики. К слову «Ермий»: «Во время рождения ея императорского величества планеты Меркурий и Марс стояли в одном знаке с солнцем». К слову «Диана»: «Луна тогда стояла в созвездии Стрельца».
В комментариях к изданию 1984 г. уклончиво сказано: «Весь этот материал служит для создания поэтической картины: слава (Солнце) и военная мощь (Марс) государства непосредственно связаны с развитием наук (Ермий-Меркурий). Геройство (созвездие Стрелец) и Красота (богиня Диана) через посредство войны (Стрелец) и мира (Диана) испускают “лучи” (стрелы) благоденствия (“дней златых”) на Россию»11.
Но перед нами не просто поэтический образ; перед нами космограмма новой царицы. Поэтически осмысленная, она действительно вселяет надежду на эпоху процветания. Диана – излюбленый риторический наряд Елизаветы , и Ломоносов находит риторическую поддержку в гороскопе: наличие планет в Стрельце. Стрелец – счастливый знак; и это особо подчеркивается.
Кроме чисто поэтической красоты, здесь есть и прагматический момент (так лишний раз подтверждается мысль о нераздельности красоты и пользы). Дата рождения Елизаветы – 18/29 декабря 1709 г. В научных изданиях можно видеть разночтения, если даны не два стиля, а только один: одни редакторы выбирают старый, другие новый. Кто же прав?
Ломоносов дает ответ на этот вопрос своим замечанием о том, что Луна в момент рождения Елизаветы стояла в знаке Стрельца. Построив две космограмы (на 18-е и 29-е декабря 1709 г.), мы увидим, что Луна стояла в Стрельце 29-го. Таким образом, если выбирать из двух стилей один, то следует указывать новый. Елизавета Петровна родилась 29 декабря 1709 г.
Ломоносовское описание, кроме того, что красиво и идеологически выдержано, еще и астрологически верно. Так что круг наших представлений о русском XVIII в. может быть пополнен и за счет астрофилогических интерпретаций.
Поэты XIX–XX вв. продолжают активно использовать в своих стихах астрономическую/астрологическую символику и метафорику. Но и в самых смелых поэтических экспериментах слышна память традиции, заданной поэтами XVIII в. в развитии «небесной» темы: целью любого введения в стихотворение астрономических мотивов, в конечном итоге, являются старые добрые польза и/или удовольствие .
Тема эта настолько живая и актуальная, что есть все основания к модным сегодня словосочетаниям, где ударным является слово «текст», добавить еще одно и говорить об астрономическом тексте русской поэзии .
Список литературы "Движение планет" в русской поэзии XVIII в
- Русско-французский словарь Антиоха Кантемира: в 2 т. Т. 1. М., 2004. С. 19
- Довгий О.Л. О рифме к слову «Россия» у Ломоносова и Пушкина//Русская речь. 2012. (В печати)
- Николаев С.И. Кто утешал Феофана Прокоповича в 1730 г.? // Русская литература. 1989. № 2. С. 191-193
- Довгий О.Л. Тритон всплывает. Хвостов у Пушкина//Граф Дмитрий Иванович Хвостов. Сочинения. М., 1999. С. 48
- Ломоносов М.В. Стихотворения/сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. Е.Н. Лебедева. М., 1984