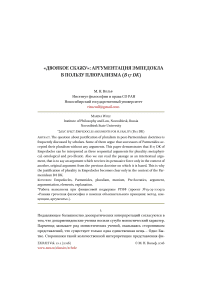«Двоякое скажу»: аргументация Эмпедокла в пользу плюрализма (B 17 DK)
Автор: Вольф Марина Николаевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Статья в выпуске: 1 т.10, 2016 года.
Бесплатный доступ
Часто ставится вопрос о том, что последователи Парменида приняли плюрализм необоснованно. Статья показывает, что фрагмент В 17 DK Эмпедокла может быть представлен как три последовательных аргумента в пользу множественности сущего: метафизический, онтологический и про-элеатовский. Кроме того, все рассуждение представляет собой интертекстуальный аргумент, то есть такой, который получает свою убедительность только в контексте того исходного, но сформулированного в другом учении аргумента, на который он отвечает. Обоснование плюрализма у Эмпедокла в В 17 DK становится ясным только в контексте рассуждений Парменида в В 8 DK.
Эмпедокл, парменид, плюрализм, монизм, аргументация, досократики, элементы, объяснение
Короткий адрес: https://sciup.org/147103440
IDR: 147103440
Текст научной статьи «Двоякое скажу»: аргументация Эмпедокла в пользу плюрализма (B 17 DK)
*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект №13-03-00097а «Ранняя греческая философия в поисках объяснительного принципа: метод, концепции, аргументы»).
Подавляющее большинство досократических интерпретаций согласуются в том, что допарменидовские учения носили сугубо монистический характер. Парменид замыкает ряд монистических учений, оказываясь сторонником представлений, что существует только одна единственная вещь – Одно Бытие. Сторонники такой количественной интерпретации представления фи-
ΣΧΟΛΗ Vol. 10. 1 (2016) зического существования испытывают затруднения при попытке согласовать множественность существующих вещей или их свойств с этим Одним Бытием, предлагая нередко довольно противоречивые трактовки этой категории, например, понимая ее как всю совокупность физических вещей. Возникающая противоречивость списывается на исходно противоречивый характер учения Парменида. Такого рода интерпретации восходят к материальному монизму Аристотеля и наследующей ему доксографии, начиная с Теофраста. Впрочем, уже сам Аристотель отказывал Пармениду в последовательности и приписывал ему количественный монизм существования только одной вещи в «Пути истины» и материальный дуализм исходных начал физического мира, света и тьмы, в «Пути мнения».
Вместе с тем, учения, возникшие после Парменида, носят явный плюралистический характер. Несмотря на то, что аргументы Парменида оказываются ключевыми для всей последующей досократической мысли, которая представляется серией ответов на них, у самого Парменида отсутствует аргумент против множественности. Соответствующий аргумент, как указывает Б. Инвуд, появляется только у Зенона. Именно по этой причине, полагает Б. Инвуд, последователи Парменида не нуждались во встречном аргументе в пользу множественности, если только не вступали при этом в спор с Зеноном, а вели свой диалог исключительно с Парменидом (Inwood 2001, 25–26). Несколько иначе на эту ситуацию смотрит П. Керд. Она также согласна, что никто из последователей Парменида не выдвигает аргументов для оправдания своего плюрализма, но лишь потому, что сам Парменид не традиционный монист, признающий единственное качественное (вещественное) начало и полагающий, что существует только одна единственная вещь, но он – философ, чье учение может быть истолковано таким образом, что оно допускает количественную множественность сущих. Каждая вещь, которая существует, может быть только одной вещью, вернее, она содержит только один существенный предикат, который указывает на то, чем именно эта вещь является. Чтобы быть подлинной сущностью, вещь должна обладать предикационным единством только с одним значением того, чем она является, и необязательно, что может существовать только одна такая вещь. В таком случае, само понятие монизма в отношении к учению Парменида должно быть пересмотрено, и П. Керд предлагает термин «предикационный монизм», который подчеркивает, что любое из многих сущее обладает только одним существенным предикатом существования (Curd 2004, 65 и сл.).
В любом случае неоднозначность существующих интерпретаций Парме-нидовского учения в отношении его принадлежности к физикам (строящих космологию) или метафизикам (развивающих учение о сущем) затрудняет восприятие последующих учений, а именно, без однозначного ответа остается вопрос о том, в чем наследовали плюралисты Пармениду, или как опровергали его учение, и если опровергали, то почему не предложили соответствующих аргументов.
На мой взгляд, постановка вопросов таким образом не релевантна, поскольку соответствующие аргументы все же имели место, другое дело, что они, вероятно, не отвечают нашим ожиданиям. Мы привыкли ставить аргументацию в контекст соотношения истина / ложь и рассматривать аргументы как опровергающие и устраняющие ложные тезисы. Справедливости ради можно заметить, что такой вариант аргументации действительно начал широко использоваться после установления Аристотелем принципов эпи-стемического поиска и силлогистического доказательства в отношении эмпирических фактов, но досократические тексты требуют другого подхода.
Нередко Парменида считают предшественником математического доказательства, прототип которого был применен в его поэме. Доказательство в математическом смысле требует установления истинности для чего-либо посредством аксиом и правил вывода, а также предполагает возможность формализованной записи с использованием определенного символьного языка. Но если перейти на уровень, более соответствующий досократиче-ским возможностям, то разница между нематематическим и математическим доказательством сведется к тому, что в первом случае доказываемое утверждение имеет место с подавляющей вероятностью, а предположение, что это не так, невероятно. Математические доказательства претендуют на то, что доказываемое утверждение имеет место с необходимостью, а предположение, что это не так, невозможно. Математическое доказательство необходимо, и именно поэтому его нельзя оспорить. Кроме того, доказательство мы можем понимать и в том смысле, который предлагал Аристотель, – как установление связи между сущностью и некоторым исходным сопутствующим ей свойством таким образом, что указанное свойство перестает быть сопутствующим и становится присущим чтойности (Родин 2003, 103). Как результат доказательство уточняет чтойность сущности и повышает онтологический статус приписываемого ей свойства (что, например, некое свойство В действительно есть, т. е. существует как момент чтойности данной сущности) (Родин 2003, 114) Доказательство, представленное в В 8 DK Парменида, вполне соответствует обозначенному выше пониманию. Парменид приписывает определенные свойства некоторой сущности, понимаемой как «нечто сущее». Свойства, или «знаки сущего» – это существенные характеристики, указывающие исключительно на эту сущность (определяющие ее чтойность), но то, что они входят в сущность, и то, что она сама та- кое, устанавливается только в ходе доказательства, которое нередко понимается как логический квест, поиск субъекта, которому присуще характерное свойство «быть». Парменид не только устанавливает, что свойство q может быть приписано некоторой сущности, но и уточняет через это свойство саму сущность.
Тем не менее, последователи Парменида, в частности Эмпедокл, несмотря на математическую форму его доказательства, восприняли его рассуждение как вероятное и сочли его если не опровержимым, то дискуссионным.
Мы будем исходить из того, что между аргументом и доказательством нет существенной разницы, 1 и будем понимать и то, и другое как последовательность доказательных шагов, которая призвана убедить в определенном тезисе без оценки вероятности или необходимости результата. Те доказательные шаги, с которыми мы имеем дело у Парменида и Эмпедокла, мы будем расценивать только на предмет эффективности убеждения, делая акцент на поиск убедительных доводов, которые также могут служить обоснованием или объяснением. Сама процедура убеждения (установления степени убедительности тезиса), разумеется, может быть представлена как доказательство, но ее конечная цель для нас выглядит принципиально иной. Деятельность досократиков привычно соотносят с естественнонаучными задачами и выявляют математические подходы или методы, чтобы продемонстрировать зачатки науки. Для нас же важно не сближение философии с математикой, или указание на использование математических методов в философии (например, процедура установления истинности посредством привлечения уже обладающих истинностью тезисов), а те аспекты, которые преследуют сугубо философскую цель – как в рамках некоторой критической дискуссии, решающей определенную философскую проблему, выстроить такую последовательность шагов с привлечением некоторых средств убеждения или обоснования (факты, здравый смысл, аргументы и проч.), которые бы сделали исходный тезис максимально убедительным, довод – приемлемым, объяснение – универсальным.
Исходя из вышесказанного, при обсуждении учения Парменида на первый план для нас выходит то, какими аргументирующими средствами для обоснования своей позиции он пользовался. Последователи Парменида – коль скоро они его последователи – обязаны были так или иначе отозваться на те принципы доказательства, которые использует Парменид. Именно с этих позиций мы и рассмотрим некоторые фрагменты Эмпедокла, что позволит нам показать в какой мере сильны расхождения или наоборот точки схождения между Парменидом и плюралистами. При таком подходе мы будем соотносить не онтологии, что, как и в каком количестве существует, а то, какие основания у философа считать приемлемыми или допустить то, что он принимает.
После публикации Страсбургского папируса (MP) (L’Empedocle de Strasbourg 1999) текстуальная база фрагмента В 17 DK Эмпедокла увеличилась, пересечения текста папируса с прежде известными фрагментами позволили расположить их в определенном порядке и у нас появилось внятное представление о месте этого фрагмента и ряда других в поэме. На основании свидетельства Симпликия мы знаем, что В 17 – это пассаж из первой книги «Физики», а пометка на полях папируса дает основания полагать, что известные нам до сих пор строки В 17 – это строки 232–266 этой же книги. Страсбургский папирус позволяет дополнить этот пассаж почти до 70 строк. Согласно Суде (А 2 DK) в поэме «О природе вещей» Эмпедокла было 2000 строк, согласно Диогену Лаэртскому – 5000 на оба сочинения «О природе» и «Очищения». Мы можем только догадываться о том, как была организована Эмпедоклом вводная часть поэмы,2 однако, нет никаких сомнений в том, что В 17 DK можно рассматривать как тезисное изложение доктринального ядра Эмпедоклова учения, предваряющее содержательную часть поэмы (Trépanier 2004, 11). Иными словами, на второй сотне стихов поэмы Эмпедокл предлагает краткий анонс содержания своего учения, который, на наш взгляд, включает почти все 70 строк (учитывая и те, что известны от Симпликия, и те, которые содержатся в Страсбургском папирусе).
Анонс учения Эмпедокла В 17 DK организован таким образом, чтобы быть максимально легким для его устного восприятия. Повторяющийся зачин предваряет первые два главных аргумента, конец аргумента обознача- ется наставлением. Та же структура характерна для строк MP, 25/17.36–69 в нумерации Инвуда. Строки 61 и 68 также содержат наставления, которые, насколько позволяет судить сильно фрагментированный текст, отделяют одни аргументы от других. Эту структуру мы положим в основание своей реконструкции аргументов Эмпедокла в В 17.1–35, не касаясь в этой статье части, представленной в MP.
Программным заявлением этого пассажа оказывается принципиальная двоякость всей конструируемой Эмпедоклом системы, включающей в себя плюрализм начал, причем обоснование этих положений лежит в пределах обозначенной Парменидом схемы доказательства. Как мы заметили выше, в наиболее привычной интерпретации досократиков, базирующейся на материальном монизме Аристотеля, допарменидовская философия придерживается монистических принципов, а послепарменидовская принимает плюрализм, не приводя для этого специальных аргументов. В действительности можно предложить некоторые основания для того, чтобы считать ряд доктрин ранних ионийцев плюралистическими в своей основе или указать на свидетельства, дающие нам право на плюралистическую интерпретацию, скажем, Гераклита (Вольф 2014b). Это говорит о том, что аргументы в пользу плюрализма могли прозвучать и в допарменидовской философии. Но это не исключает того, что плюралисты–последователи Парменида не могли выдвинуть собственных аргументов, усилить или хотя бы повторить предшествующие. Тем не менее, П. Керд убеждена, что последователи Парменида принимают плюрализм некритично, не предлагая обоснований собственным основаниям просто потому, что в полной мере это обоснование было выдвинуто самим Парменидом (реконструированный ею тезис о множественности сущих, каждое из которых обладает собственным существованием как существенным предикатом, Curd 2004, 65–75). На первый взгляд, с этим положением хочется согласиться, но только в той части, что Парменид формулирует такие логические условия, принципы, без которых невозможны плюралистические картины мира. Если же смотреть на требование обоснования плюрализма с позиций объяснения, как и при каких условиях должен работать плюрализм, то именно такое обоснование, на наш взгляд, предлагает B 17 DK Эмпедокла. Иными словами, можно трактовать В 17 DK как пассаж, в котором дается обоснование плюралистического учения, причем этот пассаж (как, впрочем, и другие части поэмы) явно дискуссионен в отношении содержания Парменидовского учения. Вместе с тем, благодаря особенностям стиля Эмпедокла в В17, содержащем некоторое число повторов, парафраз, самоцитиро-ваний и отсылок к предшествующим концепциям, этот пассаж является набором своего рода гипер-ссылок, развернутым оглавлением, с которым не- сложно соотнести как некоторые другие части поэмы, более содержательно раскрывающие необходимые элементы в его рассуждении, так и предшествующие философские доктрины, что дает основания рассматривать его в том числе и как интертекстуальный аргумент,3 поскольку, хотя содержательно Эмпедокл расходится со своими предшественниками, он выступает наследником их методов и приемов в аргументации.
Чтобы понять, на каких основаниях строится полемика Эмпедокла, нам придется сделать несколько предварительных замечаний о Пармениде. Поэму Парменида можно представить как некоторое исследование, в результате которого предполагается установить, что же именно существует. В качестве методологии такого исследования используется принцип доказательства: демонстрируется, что некоторые свойства, которые не следуют из обычного определения сущего – обыденных представлений о существующих вещах, – являются, тем не менее, существенными для искомого объекта, и в результате доказательства эти свойства оказываются неотъемлемыми, и на их основании уточняется содержание определения сущего. Этими свойствами являются т. н. «знаки сущего» (Вольф 2012). Исходный тезис Парменида, своего рода теорема, которую следует доказать, обозначен во фрагменте В 2 DK, который звучит как программное заявление Парменида. Его суть, ориентируясь на удачную формализацию М. Ведина (Wedin 2014, 10–11), позволяющую поместить этот пассаж в контекст закона исключенного третьего, и опираясь на точку зрения А. Мурелатоса о том, что в В 2 глагол «быть» используется не только бессубъектно, но все высказывание может быть прочитано и таким образом, что могло подразумевать и пропущенный предикат для этого «быть» (Mourelatos 2008, 269–276), может быть представлена следующим образом:
-
1. ( х ) ( x есть p ⋃ х не есть p );
-
2. ( х ) ( х есть объект поиска → x есть p ⋃ х не есть p );
-
3. ( х ) ( х есть объект поиска → x есть p ),
где p – подлинно сущее, или какой-либо из знаков сущего (нерожденное, негибнущее, целое, моногенное, бездорожное и т. д.).
Несмотря на использование модальностей в исходном тезисе Парменида, которые указывают на необходимость доказываемого тезиса и невоз- можность его противоположного,4 Эмпедокл, формулируя собственное программное заявление (В 17 DK), вступает в явную полемику с Парменидом, и в его версии исходный тезис приобретает несколько иной вид, дизъюнкция у него переходит в конъюнкцию, допуская обоюдное, и такое, и иное вместе:
( х ) ( x есть p ∩ х есть не p ).
Именно этот тезис, на наш взгляд, Эмпедокл последовательно обосновывает во фрагменте В 17 DK. Сам фрагмент может быть представлен как трехчастный структурный аргумент «двоякого» существования ( x ) ( x есть p ∩ х есть не p ), иными словами его «двоякое скажу» подразумевает, что некое сущее может быть представлено как и такое и не такое вместе. Эмпедокл принципиально меняет область приложения Парменидова доказательства. Если для Парменида важно было продемонстрировать, каким образом его выводы приложимы к мышлению какого-либо одного единственного сущего и его характеристик, но при этом будут корректны для любого сущего (в «Пути истины»), и неприемлемость этих принципов к эмпирической стороне мира (в «Пути мнения»), то Эмпедокл занимается реабилитацией «Пути мнения», используя для этого аргументационные ходы самого Парменида.
Структура В 17 DK5 включает в себя первый и второй двоякий аргументы, содержащие обоснование множественности сущих и про-элеатовское доказательство их вечности. Первая двоякая речь, или первый двоякий аргумент, посвящен различению одного и многого, может быть назван метафизическим аргументом,6 и призван доказать, что имеются некие сущие, которым присущи противоположные качества. Исходный тезис аргумента формулируется следующим образом: «в какое-то время одно выросло быть единственным (единичным) из многого и в другое время снова распалось быть многим из одного» (τοτὲ µὲν γὰρ ἓν ηὐξήθη µόνον εἶναι ἐκ πλεόνων, τοτὲ δ' αὖ διέφυ πλέον' ἐξ ἑνὸς εἶναι).7 Этот тезис сразу настраивает нас на восприятие всего пассажа как интертекстуального аргумента, поскольку может быть соотнесен с элейским вопросом («что может выступать в качестве субъекта (и/или предиката) "быть"?») и с парменидовским исходным тезисом B 2.3, 5 в контексте поиска пропущенных субъекта и предиката высказывания: «как S есть P да и как невозможно S не быть P, как S не есть P да и как S не быть P должно» (ἡ µὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι µὴ εἶναι,… δ' ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι µὴ εἶναι). Эмпедокл, образно говоря, заполняет пропуски, и сообщает следующее о том, чему следует быть: «выросло единичным быть из многого» и «распалось многим быть из одного». В свете того, на чем, согласно предикационной интерпретации (существование есть существенный предикат любого сущего) настаивает Парменид, это – крайне провокатив-ный тезис, поскольку он не только базируется на признании некоторых противоположных форм (ἐναντία µορφαί), от чего Парменид тщательно отвращал, но еще и допускает, что каждая из обозначенных категорий сущего (коль скоро они обозначены через глагол «быть», одно из значений которого в подобных конструкциях – это значение тождества) содержит противоположное себе в качестве своего существенного предиката. Этот момент является общим для первого и второго двоякого аргумента.
Другой важный элемент интертекстуальности, касающийся уже только первого аргумента – это перекличка с первым доказательством первого знака сущего у Парменида в В 8.6–21 DK. Это доказательство нерожденности сущего, на которую указывает знак ἀγένητον. Суть доказательства – в невозможности для сущего умереть, и в качестве вывода по первому доказательству Парменид заключает, что «рожденье угасло и гибель пропала без вести» . То, как строит свой первый аргумент Эмпедокл, показывает, что он держит в уме это доказательство Парменида, явно с ним полемизируя, что мы увидим ниже.
Первый аргумент Эмпедокла строится на основании признания рождения и гибели неких сущих, и в ходе аргумента Эмпедокл, как и Парменид, не закончив первого шага доказательства, не раскрывает, что именно за сущие имеются им ввиду, категоризируя их как многое и единое, которые предстают здесь как формы генерализаций этих сущих.
I. 1-й двоякий аргумент (В 17. 1–14, MP 233–246): «одно выросло единичным быть из многого » и «распалось многим быть из одного ».
-
1. Допущение , или основание : «двояко рождение, двояка гибель»;
-
2. Обоснование :
-
1) рождение двояко, поскольку под рождением подразумевается соединение, которое все порождает и уничтожает ( p ∩ не p ),
-
2) гибель двояка, поскольку все, отдаляясь, взращивается вместе и разлетается прочь ( p ∩ не p ) (В 17.4–5);
-
3. Подкрепление (соединяет этот шаг аргумента с основным тезисом о существовании одного и многого, здесь в качестве подкрепления выступает объяснение):
-
4. Следствия :
механизм рождения и гибели обеспечивается двумя трансформирующими принципами8 – Любовью и Ненавистью, такими, что они, в свою очередь обеспечивают непрерывное чередование указанных выше процессов;
Итак, трактовки первого аргумента могут быть разными. Во-первых, мы можем говорить об изменении поля приложения парменидовских аргументов, и можно также допустить, что Эмпедокл скорее расширяет это поле. Подчеркивая, что помимо единства имеется множество, Эмпедокл заменяет характерное для монистических парменидовских интерпретаций «одно» в его количественном аспекте («существует нечто одно по числу») на «единое» как соединение многих в одно. Такое прочтение Парменида Эмпедоклом, в свою очередь, может служить косвенным указанием на исходную множественность сущих у самого Парменида, и помимо этого показывает, во втором следствии, в каком смысле могут быть непротиворечиво использованы в такой системе парменидовские знаки сущего «нерожденное» и «неподвижное (как неизменное)».
Еще один момент, может быть не настолько очевидный, но тоже позволяющий остаться рассуждению Эмпедокла в пределах интертекстуального аргумента – указание всего рассуждения на еще один знак сущего, обсуждаемого Парменидом (вернее, совокупность знаков), – «теперь все вместе (ἐπεὶ νῦν ἐστιν ὁµοῦ πᾶν) одно (ἓν), связанное (συνεχές)». Мы не будем вдаваться в подробности споров на счет того, сколько здесь знаков сущего имеет в виду
Парменид, отметим только одну трактовку. Нас здесь в первую очередь интересует знак ἓν, «одно».
Чаще всего ἓν читался интерпретаторами как «одно по числу» в соответствии с количественным монизмом, но мы обратим внимание на ту интерпретацию, которая указывает не столько на единственность, сколько на единство сущего: «сущее все вместе одно», «только то, что одно (т. е. едино), существует», «единое, поскольку связанное» (Curd 2004, 73; Вольф 2012, 319– 322). Иными словами, с Парменидовским знаком сущего «ἓν συνεχές» мы должны соотносить не столько одно в его связи с многим и наоборот. То, о чем хочет сказать Эмпедокл во втором следствии – о вечном существовании той системы, в которой все элементы связаны таким образом, что их чередование обеспечивает постоянство существования, что в таком случае не противоречит и общей установке Парменида.
Вторая двоякая речь, или второй двоякий аргумент можно обозначить как онтологический аргумент на том основании, что он, наконец, проясняет, что же именно существует, а по своему характеру он служит подкреплением для (I), фактически разъясняя, что является одним и многим, и какую роль играют трансформирующие силы.
II. 2-й двоякий аргумент (В 17, 15–25, MP 247–257): «одно выросло единичным быть из многого » и «распалось многим быть из одного ».
-
1. Что существует. Объяснение касательно многих начал: быть многим из одного, значит существовать в качестве огня, воды, земли и воздуха (πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γαῖα καὶ ἠέρος ἄπλετον ὕψος);
-
2. Благодаря чему. Объяснения касательно трансформирующих принципов и их отношения к сущему:
-
1) Ненависть – внешний трансформирующий принцип, существующая «помимо них», δίχα τῶν, уравновешенная;
-
2) Любовь – внутренний трансформирующий принцип, существующая «в них», ἐν τοῖσιν, равная в длину и ширину;
-
3. Разъяснения касательно любви. Любовь познается посредством нуса (ума) (τὴν σὺ νόωι δέρκευ) и органам чувств недоступна.
-
4. Наставление: «Ты же слушай необманчивый рой слов».
Как было сказано, второй двоякий аргумент разъясняет и дополняет те пункты, на которых держится аргумент (I). В первую очередь, называются сущие, под ними Эмпедокл понимает традиционные массы-силы, фигурирующие в ранних философских и дофилософских космологиях. Что касается трансформирующих принципов, то оба они описаны таким образом, что с каждым из них соотносится парменидовский знак сущего «однородность (моногенность)» на том же основании, на каком он приложим к пармени- довскому сущему, – в силу равенства самому себе (ср. Парменид B 8. 44 и В 8.49 – «равносильное от центра» и «равное самому себе со всех сторон»). А именно, Ненависть – в силу уравновешенности (ἀτάλαντον ἁπάντηι), Любовь – в силу равенства в длину и ширину (ἴση µῆκός τε πλάτος τε). Знак µουνογενές у Парменида допускает двоякое понимание. Первая трактовка – «единородное» – подразумевает уникальность сущего, т. е. «единственность в своем роде». Это наиболее частый перевод. Другая трактовка – «однородное» – используется реже, общий для этой трактовки аргумент состоит в том, что «µουνογενές должен быть понят скорее как восходящий к γένος («вид» или «род»), чем к γίγνεσθαι (приходить в существование)» (Curd 2004, 70–73). Именно «однородность», а не «единственность в своем роде» обеспечивает значение подобия, одинаковости во всех частях, это один из моментов, на котором строится доказательство у Парменида. Характерно, что здесь Эмпедокл приписывает этот знак не сущему, а трансформирующим принципам как тому, что должно сохранять свой двигательный принцип и не трансформироваться само. В таком случае можно говорить и о двоякости трансформирующих принципов, которые тождественны по свойству и функции, но, будучи противоположными, воздействуя на сущие, приводят к разным результатам.
Эмпедокл в этом аргументе объясняет только свойства Любви, не давая разъяснений насчет Ненависти. Можно допустить возможность восстановления аргументации через противопоставление (наличие противоположного). Поскольку Любовь и Ненависть выступают как противоположные формы, не исключено, что Ненависти приписываются противоположные характеристики: она не почитается людьми, познается если не умом, то чувствами и проч. Другая возможность, и она кажется мне более приемлемой, и опирается при этом на первую, – Ненависть действительно обладает противоположными свойствами, но тому, как она функционирует, посвящена большая часть содержания поэмы, где объясняется и описывается характер и результат взаимодействия стихий, раздельное существование которых обеспечивает именно Ненависть. Не исключено, что согласно принципу поиска единственного объяснения оформляется и «теория пор» Эмпедокла, основанная на сугубо эмпирическом, вернее, сенсуалистском характере познания вещей через призму и как результат взаимодействия элементов (Вольф 2014a).
Структурно, первый и второй двоякий аргументы соответствуют первому и второму доказательству у Парменида – доказательству нерожденности (В 8.6–21) и связанности (В 8.22–25) соответственно.
Отдельный интерес вызывает наставление, которым заканчивается вторая двоякая речь. По своей форме это – парафраз парменидовской строчки В 8.52, которой обозначен переход к изложению «мнений смертных», или «Пути мнения»: «учи мнения смертных, слушая обманчивое украшение ( космос ) моих стихов» (µάνθανε κόσµον ἐµῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκούων). Эмпедокл: «ты же слушай необманчивый рой слов» (σὺ δ' ἄκουε λόγου στόλον οὐκ ἀπατηλόν ). Принципиальная разница этих двух наставлений в том, что последующие за ними слова один объявляет ложными, другой – нет. Наряду с этим у Эмпедокла отмечается и существенная инверсия содержательного аргумента: Парменид дескриптивно задает космологию как мир противоположных форм, принятых смертными, тогда как Эмпедокл именно для обоснования космологической базы использует принципы парменидовского доказательства. На этом построен третий аргумент.
Третий шаг эмпедокловой аргументации стоит обозначить как про-элеатовский аргумент , поскольку здесь Эмпедокл обосновывает существование элементов и доказывает их вечность, или неразрушимость, фактически основываясь на тех ходах, которые использует Парменид на третьем и четвертом шаге своего доказательства в В 8 (8.26–31 – доказательство неизменности и 8. 32–49 – доказательство законченности), или привлекая их в качестве обоснования шагов доказательства. Ниже, в структуре доказательства, знаком (*) мы обозначим аргументацию, которой нет у Эмпедокла, но которая легко реконструируется из хода его рассуждения и отсылает к пар-менидовскому тексту.
-
III. «Необманчивый рой слов». Про-элеатовский аргумент (В 17.26–34, MP 258–266).
-
1. Эндоксическое обоснование (апелляция к традиции):
-
1) Тезис : сущие (элементы) равны между собой и ровесники по рожде
нию, т. е. ни один из них по отдельности не есть архэ , не является началом;
-
2) Обоснование :
-
а) они различны по должности и по характеру (это известно, т. к. свойства каждого из них обсуждались предшествующей философией, напр. ранними ионийцами);
-
б) господствуют по очереди по истечении определенного срока (это известно, т. к. обсуждалось, например, у Анаксимандра).
-
3) Вывод: элементы становятся со временем то тем, то иным, пробегая через друг друга (исключаются трансформации какого-либо одного первоначала).
-
2. Элейское доказательство:
-
1) Тезис : к ним ничего не прибавляется, от них – не отнимается9;
-
2) Доказательство от невозможности разрушения элементов (сущих):
-
а) если бы непрерывно разрушались, то их уже не было бы (разрушились бы) (по принципу достаточного основания);
б1) если бы разрушились полностью, что бы тогда давало прирост всего, б2) если бы все-таки что-то давало прирост всего, то откуда бы оно взялось, б*) взяться ему неоткуда, постольку у Парменида доказано, что сущее безначально и непрекратимо (ср. В8. 27);
-
в) куда (во что) бы они полностью разрушились, когда от них ничто не пусто,
в*) а то, что от них ничего не пусто (ἐπεὶ τῶνδ' οὐδὲν ἔρηµον), доказано у Парменида: 8.24 – все наполнено сущим (πᾶν δ' ἔµπλεόν ἐστιν ἐόντος), 8.36–37 – нет и не будет ничего, кроме сущего (οὐδὲν γὰρ <ἢ> ἔστιν ἢ ἔσται ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος).
-
3) Вывод: элементы суть непрерывно и вечно тождественные сущие (ἠνεκὲς αἰὲν ὁµοῖα) (* как сказано у Парменида, В 8.29 – оставаясь тем же самым в том же (ταὐτόν τ' ἐν ταὐτῶι τε µένον καθ' ἑαυτό τε κεῖται)).
В качестве общего вывода Эмпедокл соединяет оба шага доказательства – существуют (2) непрерывно и вечно тождественные сущие, (1) которые становятся со временем то тем, то иным, пробегая через друг друга, – чем снова демонстрирует исходную формулу (p ∩ не p).
Несмотря на то, что в третьем аргументе Эмпедокла мы имеем дело с доказательствами в парменидовском стиле, тем не менее это не доказательства множественности как таковой, он всего лишь приспосабливает парме-нидовские аргументы к плюралистской позиции. Кроме того, хотя 3-й аргумент и закладывает базу для обоснования космологических процессов, а наставление, которым заканчивается 2-й аргумент, через парафраз Парменида, явно намекает на то, что далее последует в том или ином виде космологическое учение, самой космологии здесь мы не находим. Если пред- положить, что Эмпедокл стремился к единообразию в своем рассуждении, то в конце 3-го аргумента также должно присутствовать наставление, которого здесь тоже нет.
Итак, мы разобрали В 17 DK Эмпедокла как интертекстуальный аргумент, в котором можно проследить не только связи с элеатовской проблематикой, но и прямое продолжение рассуждения Парменида и дискуссию с ним. Очевидно, что такой подход к поэме Эмпедокла может оказаться весьма плодотворным для обоснования предикационного монизма Парменида, и соответствующие акценты мы по ходу изложения ставили. Тем не менее, нас интересовал другой вопрос: вне зависимости от интерпретаций учения Парменида, общий вопрос об отсутствии обоснования множественности у плюралистов оставался открытым. Мы подошли к вопросу с позиций принципиального неразличения доказательства и аргумента, допустив, что не только аподейктическое, но и психологическое доказательство может дать в этой связи некоторый результат. На наш взгляд, именно первый и второй двоякие аргументы (построенные на принципах убедительной речи, а не геометрического доказательства) могут быть интерпретированы у Эмпедокла в качестве обоснования множественности сущего, которого, как мы замечали выше, интерпретаторы не находят у плюралистов. Это не доказательство в том виде, как его используют элеаты, но именно аргументация в пользу множественности.
Прежде всего, Эмпедокл существенно меняет весь ход рассуждения Парменида вида (х) (x есть p ⋃ х не есть p), приводя его к форме (x) (x есть p ∩ х есть не p), а также меняет область приложения доказательства, реабилити- руя «Путь мнения» посредством демонстрации приложения к нему основных позиций рассуждения Парменида.
Как кажется, Эмпедокл не видит для себя другого условия возможности многого, кроме рассуждения «от противоположных форм», т. е. в противопоставлении чему-то одному или единому, а также в терминах гибели и рождения. Кроме того, он, судя по всему, придерживается тезиса, что сам субстрат не может причинить собственные изменения, а потому для обеспечения гибели или рождения субстрата необходимы некоторые внешние силы. Тем самым введение внешних сил также будет служить обоснованием множественности. Таким образом, Эмпедокл вынужден допустить рождение и гибель в противовес Пармениду, но старается смягчить это положение, вводя наряду с ним вечное чередование того и другого (или процессов, сопровождающих это чередование), как и чередование самих многих по отношению друг к другу – именно эти процессы будут у него служить аналогом вечного и неподвижного существования. Эмпедокл делает еще одну оговорку по этому поводу. Рождение и гибель – это слова, которые – и здесь следует согласиться с Парменидом – действительно некорректно используются людьми. Можно говорить только о рождении и гибели элементов из многого в единое и наоборот , но не о рождении и гибели вещей мира, для чего корректными терминами будет смешение и разделение элементов (31 В 8 DK). Таким образом, допустив и обосновав множественность в первых двух двояких речах, в третьем аргументе Эмпедокл представляет по сути еще один убедительный довод, поддержку, своего рода усиление аргумента – он показывает, что к многому непротиворечиво приложимы некоторые знаки сущего, а вместе с тем и сам ход парменидовского доказательства может служить дополнительным обоснованием его собственных рассуждений о свойствах многого.
Список литературы «Двоякое скажу»: аргументация Эмпедокла в пользу плюрализма (B 17 DK)
- Вольф, М. Н. (2014а) «Подобное к подобному» и «клепсидра»: рецепция Платоном досократических объяснительных принципов, Платоновские исследования 1, 31-54.
- Вольф, М. Н. (2015) Полярность как метод у досократиков: интертекстуальный аргумент, Вестник НГУ. Серия «Философия» 13.3.
- Вольф, М. Н. (2014b) Процесс трансформации в досократических субстанциальных моделях объяснения, Вестник НГУ. Серия Философия 12.3, 113-131.
- Вольф, М. Н. (2012) Философский поиск: Гераклит и Парменид. Санкт-Петербург.
- Родин, А. В. (2003) Математика Евклида в свете философии Платона и Аристотеля. Москва.
- Curd, P. (2004) The legacy of Parmenides. Eleatic monism and later presocratic thought. Las Vegas.
- Dufour, M. (2013) “Arguing Around Mathematical Proofs,” The Argument of Mathematics. Eds. by A. Aberdein, I. J. Dove. Springer.
- Inwood, B. (2001) The Poem of Empedocles. A Text and Translation with an Introduction. Revised Edition. Toronto. L'Empédocle de Strasbourg (P. Strasb. gr. Inv. 1665-1666): Introduction, édition, et commentaire by Alain Martin, Oliver Primavesi (1999). Berlin and New York.
- Mourelatos, A. P. D. (2008) The route of Parmenides: revised and expanded edition; with a new introduction, three supplemental essays, and an essay by Gregory Vlastos (originally published 1970). Las Vegas (“Appendix II: Interpretations of the Subjectless ἐστι”).
- Schiappa, E., Hoffman, S. (1994) “Intertextual Argument in Gorgias’s «On What Is Not»: A Formalization of Sextus, «Adv Math»7.77-80,” Philosophy & Rhetoric 27.2, 156-161.
- Trépanier, S. (2004) Empedocles. An Interpretation. Rutledge.
- Wedin, M. V. (2014) Parmenides’ Grand Deduction. A Logical Reconstruction of the Way of Truth. Oxford.