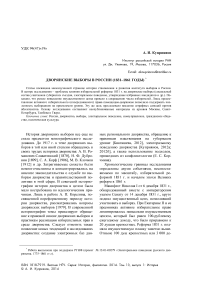Дворянские выборы в России (1831–1861 годы)
Автор: Куприянов Александр Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малоизученной странице истории становления и развития института выборов в России. В центре исследования – проблемы влияния избирательной реформы 1831 г. на дворянские выборы (социальный состав участников губернских съездов, электоральное поведение, утверждение избранных кандидатов и др.). Показано, что резкое повышение имущественного ценза привело к сокращению числа избирателей. Лишь предоставление активного избирательного (опосредованного) права помещицам-дворянкам позволило поддержать численность выборщиков на приемлемом уровне. Эту же цель преследовало введение штрафных санкций против абсентеистов. Основу исследования составляют неопубликованные материалы из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова и Твери.
Россия, дворянство, выборы, электоральное поведение, самоуправление, гражданское общество, политическая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/147218995
IDR: 147218995 | УДК: 94(47)6199
Текст научной статьи Дворянские выборы в России (1831–1861 годы)
История дворянских выборов все еще не стала предметом монографического исследования. До 1917 г. к теме дворянских выборов в той или иной степени обращались в своих трудах историки дворянства: А. В. Ро-манович-Славатинский [1870], Н. Ф. Дубровин [1899], С. А. Корф [1906], М. В. Клочков [1912] и др. Затрагиваемые сюжеты были немногочисленны и концентрировались на анализе законодательства о службе по выборам дворянства и правительственной политики в этой сфере. В советской историографии история дворянства в целом была мало востребована по идеологическим причинам. Лишь в работе А. П. Корелина, посвященной пореформенному периоду истории дворянства, рассматривались вопросы дворянских выборов [1979]. В современной историографии темы превалирует обращение к правовой основе дворянских выборов и практикам реализации избирательных прав в среде дворянства. Следует отметить также появление новых тенденций в исследованиях дворянства: создание электронных баз дан- ных регионального дворянства, обращение к практикам властвования на губернском уровне [Бикташева, 2012], электоральному поведению дворянства [Куприянов, 2012а; 2012б], а также использование подходов, пришедших из конфликтологии (Е. С. Кор-чмина).
Хронологические границы исследования определены двумя событиями, несопоставимыми по масштабу, избирательной реформой 1831 г. и началом эпохи Великих реформ в 1861 г.
Манифест Николая I от 6 декабря 1831 г., обнародованный вместе с императорским указом Сенату от 14 декабря 1831 г., круто поднял имущественный ценз, позволявший участвовать в выборах. При Екатерине II и ее преемниках активное избирательное право лимитировалось невысоким имущественным цензом, который был равен 100-рублевому ежегодному доходу, что было приравнено к 20 душам крепостных. Реформа 1831 г. подняла имущественную планку заметно выше. Отныне 100 душ крепостных или 3 000 де-
№ 12-01-00279 «Электоральное поведение русского дво-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © А. И. Куприянов, 2014
сятин земли давали избирательные права их владельцу или владелице. Все другие помещики, собственность которых не удовлетворяла этому цензу, могли объединяться в участки, каждый не менее 100 душ или 3 000 десятин земли, и посылать на губернский съезд одного уполномоченного.
В историографии реформа Николая I, ограничившая избирательные права тысяч дворян, справедливо оценивалась как уступка правительства крупным землевладельцам 1. При этом власть откровенно лукавила, подавая увеличение имущественного ценза как благодетельную меру заботы монарха, направленную на устранение возникших «затруднений», «недоразумений» и «неудобств». Сами проблемы дворянского самоуправления трактовались как следствие естественного процесса: «Сии неудобства происходят не от свойства сих коренных постановлений, но от естественного изменения обстоятельств; в особенности же от частого раздробления дворянских имений, чрез продажу и разделы при наследстве. От сего число избирателей непомерно увеличилось».
Фраза о «непомерном увеличении» числа избирателей у всякого дворянина, хотя бы раз участвовавшего в выборах, могла вызвать лишь ироническую улыбку. Ситуация была прямо противоположная. Из многих губерний, напротив, сыпались жалобы на малочисленность дворянских собраний. Однако историк А. В. Романович-Славатин-ский, положительно оценивавший повышение имущественного ценза в 1831 г., считал, что участие мелкопоместных дворян «делало собрания слишком многолюдными: в Рязани на дворянские выборы в конце прошлого столетия стекалось иногда до 2 000 дворян, преимущественно мелкопоместных» [1870. С. 433]. Приведенный им аргумент для обоснования повышения имущественного ценза не корректен: данные о численности собрания относятся к концу XVIII в., а ценз изменился в 1831 г. Есть основания усомниться и в приведенной историком цифре. Так, в 1806 г. в рязанских выборах участвовало 269 дворян, в 1818 г. – 200 и лишь в 1827 г. число избирателей достигло 393 чел. 2 Учи- тывая, что между «концом» XVIII в. и 1806 г. избирательные цензы не пересматривались, административно-территориальное деление не менялось, массового истребления дворян времен Великой французской революции и восстания Пугачева не проводилось, объяснить почти восьмикратное сокращение числа участников дворянских выборов мне не представляется возможным. Остается предполагать, что о 2 000 дворян рассказал историку кто-то из престарелых современников. Возможно, тогда в Рязань съехалось множество дворян в сопровождении домочадцев, прибывших поглазеть на губернские развлечения. Это необычайное многолюдство провинциального города и произвело на жителей Рязани неизгладимое впечатление. Предполагаемый ажиотаж вокруг выборов, вероятно, мог быть не во время правления Павла I, отменившего губернский съезд дворянства, а в 80-х – первой половине 90-х гг. XVIII в., когда выборы еще вызывали живой интерес и сопровождались театральными спектаклями, концертами, балами и маскарадами, которые были еще редкостью в провинции.
Каковы же были количественные показатели численности избирателей после реформы 1831 г.? Например, в Московской губернии в 1835 г. таковых было: мужчин 1 979 и женщин 1 457, не считая города Москвы. Из них лишь 717 дворян (36,2 % от общей численности мужчин) имели право непосредственного участия в выборах, еще 277 (14 %) через уполномоченных, а также 367 дворянок (25,2 % женщин), которые могли передоверить свой голос мужчинам 3. Эти данные свидетельствуют о значительном уменьшении числа дворян, обладавших избирательным правом.
В Тамбовской губернии в начале 1831 г. для участия в выборах зарегистрировался 331 дворянин 4. На следующих выборах 1834 г., проводившихся уже после избирательной реформы, в выборах участвовало 237 дворян, или 71,6 % к уровню прошлых выборов 5. В 6 из 12 уездов Тамбовской губернии не набралось избирательного кворума, состоящего по закону из 12 чел. 6, а на предыдущих выборах все уезды имели необходимый кворум.
Малочисленность избирателей – проблема не новая. И до 1831 г. из многих уездов на губернский съезд приезжало ничтожно мало дворян. Иногда избирателей в уездах было по 5–6 чел., поэтому для доминирования на уездных выборах достаточно было сговора 3–4 помещиков. Для борьбы с этим негативным явлением был установлен кворум – 12 чел. Если же уездных дворян приезжало меньше, применялось две модели голосования. В Московской губернии при недостатке дворян в одном уезде их объединяли с дворянами другого уезда. Так, в 1838 г. из-за недостатка избирателей в Волоколамском и Богородском уездах к ним «присоединили» Звенигородский и Бронницкий уезды, соответственно 7. На основании этой схемы прошли выборы в 1852 г. по Дмитровскому и Волоколамскому уездам Московской губернии 8.
Николай I, стремясь наполнить полупустые залы дворянских собраний, вменил дворянам в обязанность участие в выборах. Для уклонистов были предусмотрены санкции, в том числе штраф от 25 до 250 руб., которому можно было подвергнуть дворянина в случае повторяющегося неучастия в выборах. Само дворянство, впрочем, не усердствовало в применении штрафных санкций, ограничиваясь вынесением «замечаний». В частности, в январе 1835 г. дворяне Бронницкого уезда Московской губернии решили сделать замечание П. Окулову, князю А. Голицыну, графу Н. Зотову и К. Нарышкину, которые «не исполнили свою обязанность», и представили свое мнение на рассмотрение губернского собрания дворянства 9.
На фоне резкого повышения имущественного ценза для активного избирательного права, законодатель был вынужден редуцировать требования к кандидатам, баллотировавшимся на дворянские службы. Это прямо противоречило букве и духу екатерининского законодательства, а также избирательным практикам XVIII – первой четверти XIX в. Так, Сиверс, проводивший первые выборы в ходе реализации губернской реформы в Твери и Новгороде, установил более высокий ценз для избираемых (20 душ), чем для избирателей (10 душ) 10. Сиверс и
Кречетников, проводивший выборы в Туле и в Калуге, полагали, что состоятельные чиновники будут благонадежнее бедных 11. Однако вскоре стало ясно, что состоятельные помещики служить не хотят. Отсутствие интереса дворян к службе по выборам вело к редукции требований к кандидатам, соглашавшимся служить в органах местного суда и управления. В результате правительство вынуждено допустить к баллотированию в качестве кандидатов личных дворян в 1831 г.
Предвидя неизбежное сокращение численности участников выборов из-за введения высокого имущественного ценза, законодатель нашел оригинальный ход для решения этой проблемы. Женщинам-дворянкам было вновь предоставлено избирательное право. Согласно § 26 указа от 14 декабря 1831 г. дворянка, «владеющая таким недвижимым имением, которое дает право непосредственного участия в выборах, может право сие предоставить своему мужу, или сыну, или зятю, хотя бы лице сие и не имело во владении своем никакого в губернии недвижимого имущества, если токмо оно соединяет в себе все другие условия, в § 15 постановленные. Но такая дворянка, владеющая означенным имуществом, у коей не будет сих родственников, может по имуществу ее, право присутствовать в собраниях дворянства и участвовать в выборах, передать лицу постороннему если токмо оно само собою, независимо от ее уполномочия, соединяет в себе условия, в § 15 и 21 настоящего положения определенные». Таким образом, дворянки, владевшие 100 душами крепостных крестьян-мужчин или 3 000 десятин земли, как и мужчины-дворяне, соответствовавшие этому цензу, получили активное избирательное право. Тем самым Николай I подтверждал, что активное избирательное право есть прерогатива состоятельных потомственных дворян-помещиков, а также крупных дворян-землевладельцев. В последнем случае власть позаботилась о том, чтобы те немногие дворяне, которые освободили своих крепостных на основании указа о свободных хлебопашцах, не оказались ущемлены в правах. В целом, это была прямая ориентация на развитие институтов местного самоуправления. Государство не делало в этом плане никаких гендерных различий. Одни и те же права были у мужчин и у женщин – помещиков и помещиц. Значение этого права, дарованного Екатериной II при выборах в Уложенную комиссию, не следует недооценивать. Дворянство было единственным сословием, женщины которого обрели право голоса. Правда, голос этот был опосредованным. Реально дворянки должны были передать свой голос одному из мужчин, имевших право участвовать в дворянских собраниях. От личного участия в выборах дворянок освободила Екатерина II, преподнося это как привилегию. Разумеется, дворянки не получили пассивного избирательного права, т. е. не могли избираться.
Восстановлением избирательных прав женщин оказались довольны далеко не все. И дело было не только в пресловутом мужском шовинизме. Женские доверенности возвращали к жизни возможность злоупотребления голосованием по доверенностям. Вот что писал об этом литератор В. В. Селиванов: «Другое средство увеличить силу партии – это набрать поболее дамских уполномочий. Для этого, задолго еще до выборов, головы партий и их деятельные сподвижники принимают всех стодушных помещиц. Это большею частию старые девицы или вдовы». Писатель придавал важное значение этим дамским «уполномочиям»: «Количество приобретенных бланок дает на выборах главнейший перевес той или другой партии, и потому для приобретения их не жалеют ни лести, ни лжи, ни клеветы, и благо тому, кто успел набрать поболее уполномочий…» [1902. С. 211]. Место действия «Дворянских выборов» – одна из средних губерний России. Вероятно, подобную «предвыборную кампанию» Селиванов наблюдал и в других регионах России, а также в Малороссии. Он располагал информацией о выборах и как жандармский офицер в Харьковской и Курской губерниях, и с 1842 г. как помещик Рязанской губернии. Возможно, он также использовал рассказы брата, И. В. Селиванова, служившего по выборам саранским уездным судьей и председателем Московской палаты уголовного суда [Русские писатели, 2007. С. 543–544].
В Московской губернии в рассматриваемое время ограничения на использование дамских голосов соблюдались строго. По выявленным мною документам ни один из участников дворянских собраний не имел в своем распоряжении больше двух шаров, из которых по доверенности был лишь один. Близкая ситуация была и в Тамбовской губернии. Однако известны отдельные факты, когда некоторые участники имели два голоса по женским доверенностям.
У избирательного права женщин быстро обнаружился неблагоприятный аспект. В октябре 1832 г. анонимный критик нового положения о дворянских выборах писал властям о вредных последствиях такого шага: «В последнем положении о выборе дворян и чиновников в судебные места, дано право всем их женам, имеющим недвижимости за собой, приносящие 2 000 руб. годового дохода, предоставлять свои преимущества в собраниях мужьям, не имеющим у себя ничего собственного. Но это снисхождение <…> порождает зло нечестивцов, вредное в обществе дворян, из которых некоренные <…> желая служить единственно по выборам дворянства; но будучи без нравственности и пристрастны ко всему непозволительному <…> переводят свои имения на жен <…> пускаются на все неправды в отношениях на счет ближнего, и средством сим обогащаясь, живут без оглядок, зная, что <…> они отделаются только выговором, замечанием и жалованьем, ими недорожи-мым…» 12. В качестве превентивной меры борьбы с этим злоупотреблением автор записки предлагал, чтобы имение жен таких чиновников подвергались «взысканиям за их упущения, как собственные» 13. Разумеется, данная мера нарушала права одного из супругов и не могла быть воплощена в жизнь.
В 1831 г. была расширена номенклатура должностей, замещаемых дворянством на конкурсной основе. Отныне дворяне стали избирать председателей палат уголовного и гражданского судов. Одновременно изменился и порядок утверждения избранных кандидатов. Кандидатов, избранных на должности председателей судебных палат и совестных судей, а также губернских предводителей дворянства утверждал император. Прежде губернские предводители назначались из двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов, губернаторами именем императрицы или императора. После
1831 г. такое назначение производилось непосредственно по высочайшему усмотрению на основе представления министра внутренних дел (§ 91, 93, 95 Манифеста Николая I от 6 декабря 1831 г.).
Казалось бы, уменьшение числа избирателей в результате реформы 1831 г. приведет и к сокращению продолжительности выборов. Но длительность выборов лишь увеличилась. Дворяне все больше тратили времени на организационные моменты, проверку расходов земских и дворянских сумм, обсуждение различных проектов и предложений властей. Например, в Туле в декабре 1849 г. выборы были открыты 8-го числа, а баллотировать начали лишь 17-го 14.
Возросшая продолжительность выборов вела к тому, что число избирателей на них уменьшалось не только с каждым днем, но с каждым голосованием. Так, в Тамбовской губернии в 1834 г. в избрании уездных предводителей 9 февраля участвовало 266 избирателей, а 10 февраля только 236 чел. баллотировали кандидатов на должность предводителя дворянства Моршанско-го уезда. Двенадцатого февраля в перевыборах предводителя Лебедянского уезда и выборах уездных судей участвовало 224 чел. В баллотировании кандидатов на должности заседателей уездного суда 14 февраля приняли участие лишь 190 чел. При выборах заседателей земского суда и депутатов губернского дворянского собрания число участников выросло до 199. В дальнейшем явка на выборы стала падать, достигнув низшей отметки при избрании заседателей совестного суда – 161 чел. (60,5 % к уровню первого голосования). Наконец, 19 февраля при выборах губернского предводителя дворянства собрались все оставшиеся в Тамбове участники съезда – 196 чел. (73,7 % к первому баллотированию) 15.
Аналогичный алгоритм электоральной активности дворян наблюдался в эти годы и в Московской губернии. Например, в 1838 г. при первом голосовании 13 января было 256 чел. 16 Двадцать пятого января заседателей судебных палат и совестного суда избирали лишь 123 чел. (48 % к первому дню) 17.
Однако 26 января при баллотировании кандидатов в губернские предводители дворянства явилось 208 чел. 18, т. е. число выборщиков выросло по сравнению с выборами заседателей палат на 69 %. Электоральное поведение московского дворянства было аналогичным и на следующих выборах. В 1841 г. при избрании главы московской губернской корпорации дворянства присутствовало на 44 % больше избирателей, чем при баллотировании заседателей палат 19. Приведенные данные свидетельствуют об отношении дворян к разным должностям, замещаемых по выборам.
Увеличение продолжительности выборов способствовало тому, что процедуры баллотирования нередко нарушались. Подобные отступления от закона даже благонамеренными наблюдателями не рассматривались как фальсификация выборов. Так, надворный советник Барабин факты грубейших нарушений регламента при последних баллотированиях на тульских выборах относил к числу вынужденных обстоятельствами: «Один, чтобы избавить от трудов других, по одиночке долженствующих подходить к губернскому столу, брал в руку десяток шаров и за других опускал их в ящик; Но без сего последовало [бы] отступление от закона, выборы наши не кончились бы в установленный двухнедельный срок» 20. Действительно, тульские дворяне оказались перед дилеммой: «отступить» от закона, ограничивавшего выборы двумя неделями, или пойти на прямую фальсификацию баллотирования, чтобы уложиться в отведенные сроки. Свой выбор они сделали в пользу формального соблюдения закона в ущерб нормам равного, тайного и прямого голосования. Это тем более странно, что закон допускал и превышение 15-дневной продолжительности в случае необходимости с согласия губернатора [ПСЗ-II, 1832. Т. 6. № 4989. § 68].
Отношение тульских дворян к выборам на губернские должности свидетельствует, что баллотирование шарами к середине XIX в. успело морально устареть. К концу двухнедельного избирательного марафона его участники подходили изрядно утомленными и морально опустошенными. Большинство участников выборов, по крайней мере, в Туле готово было идти на любые нарушения избирательных процедур, дабы покончить с канителью выборов.
Власть, как и прежде, крайне негативно относились к проявлениям групповых интересов и созданию группировок избирателей. В существовании «партий» видели угрозу корпоративной сплоченности дворянства. Ссылка на «дух партий», борьбу, раздирающую общество дворян, стала формальным поводом для отказа Николая I утвердить в должности одного из двух кандидатов в губернские предводители, победивших на тамбовских выборах 1845 г. Характерно, что в архивных материалах о тех выборах мне не удалось обнаружить ни жалоб на пристрастные действия оппонентов, ни явных свидетельств борьбы «партий». При выборах на должности уездных предводителей большинство участников, включая и многих лиц, прежде служивших предводителями, предпочитало уклониться, а иных приходилось долго уговаривать оставить свою кандидатуру в списке для баллотирования. В результате в каждом уезде с трудом набралось по 3–4 кандидата на должность уездного предводителя. Единственное исключение составил Тамбовский уезд, где на должность предводителя баллотировали 5 кандидатов. Да и среди избранных кандидатов отказы были нередки 21. Причина настойчивых уговоров со стороны уездных собраний была в том, что необходимо было избрать не только предводителя, но и двух кандидатов к этой должности, обязанных в случае необходимости принять ее. И эти опасения были не напрасны: в декабре 1845 г. губернатор не утвердил предводителя дворянства Кирсановского уезда и его кандидата, на том основании, что избрать к предводителю надлежало не одного, а двух кандидатов 22. Вся эта ситуация с массовым нежеланием большинства дворян баллотироваться на службу меньше всего похожа на борьбу «партий», но монарху оказалось достаточно голословного заявления губернатора.
Мелкопоместные и беспоместные дворяне после 1831 г. стали играть менее заметную роль, но часть из них попадала на вы- боры не только законным путем в качестве уполномоченных, но и с помощью подлогов. В. А. Шомпулев писал в мемуарах о том, как формировались дворянские «партии» на выборах 1860 г. в Саратове: «…к гостиницам подъезжали тройки в больших санях, битком набитых дворянами, – это некоторые предводители везли своих избирателей, доставляя на свой счет в город, где и содержали их до окончания выборов» [2012. С. 121.] Кажется, что мемуарист говорит здесь о «запасных» участниках выборов до 1831 г., которых драматург Г. Квитка красочно описал в своей комедии «Дворянские выборы». Если же Шомпулев был точен в своей интерпретации принципа формирования некоторых «партий», то возникает вопрос, каким образом на дворянские съезды попадали бедные дворяне?
Сам мемуарист не распространяется на этот счет, но составители комментариев к его мемуарам для сравнения привели отрывок из записок священника А. И. Розанова: «Некоторые, желавшие быть выбранными в предводители, делали запродажные записи мелкопоместным, чтобы те имели ценз и были их сторонниками…» [Шомпулев, 2012. С. 121]. Эти незаконные манипуляции обеспечения формального ценза «своим», впрочем, не были недавним изобретением. Князь И. М. Долгоруков, рассказывая о выборах 1802 г. во Владимирской губернии, упоминает о кандидатах, «продававших» бедным дворянам участки земли, которые затем «возвратными купчими отнимали» [2004. С. 601].
Структурирование локальных интересов протекало в 1830–1840-е гг. также медленно и малозаметно, как и в начале XIX в. И все же противоречия между дворянской корпорацией и губернской администрацией начинают обретать более открытый характер. Конфликты на почве личных отношений уступали место таким конфликтам, которые имели социальный характер. В частности, в области местных финансов. Губернские дворянские корпорации, получив право контроля над расходами дворянских и земских сумм, постепенно почувствовали свою значимость и стали осознавать себя как силу, призванную ограничить всевластие бюрократии. Середина XIX в. вплоть до обсуждения вопросов об отмене крепостного права в ряде губерний была временем борьбы на выборах «губернаторской» и «дворян- ской» партий. Слово «партия» мы используем здесь без кавычек, ибо хотя это не были партии в современном значении, но это уже были неформальные локальные объединения, формировавшиеся на почве борьбы за властные отношения на губернском уровне. Разумеется, оппозиционность «дворянской» партии по отношению к губернатору не означала оппозиционности имперским властям и социально-политическому строю Российской империи. Однако в конце 1850-х – начале 1860-х гг. часть дворянских оппозиционеров перешли на либеральные позиции и заговорили о необходимости более серьезных социальных и политических преобразований, чем те, которые предлагались правительством. Среди них был отчетливо слышен и голос тверских либералов.
Борьба либералов и консерваторов вокруг проектов реформ обстоятельно описана в литературе и не является предметом внимания данного исследования. Однако важно проследить, как дворянские выборы становились ареной борьбы между консерваторами и либералами в эпоху, предшествующую обсуждению проектов реформ. В этом контексте борьба «дворянской» и «губернаторской» партий на тверских выборах представляет несомненный интерес.
Установленный в 1831 г. порядок утверждения избранных на должности губернских предводителей дворянства и председателей судебных палат де-юре устранял влияние губернаторов на утверждение этих важных должностей. Однако сам порядок представления кандидатов на высочайшее усмотрение через губернаторов и министра внутренних дел оставлял в руках губернаторов серьезный инструмент влияния на выбор монархом желаемого им кандидата. Так, тверской гражданский губернатор Бакунин направил 21 декабря 1856 г. министру внутренних дел С. С. Ланскому конфиденциальное сообщение. Бакунин утверждал: «…все говорят, что партиям дана была полная свобода действий к достижениям своих видов, так что противодействие им благонамеренных лиц возбуждало противу их шум, крики, неприличные в дворянском собрании, докладываемые дела решались не по справедливости, а по воле партий, противодействовать же им было тщетно…» 23.
Подобные заявления губернаторов имели само серьезное влияние на утверждение губернских предводителей. В начале 1846 г. Николай I не назначил никого из двух кандидатов, избранных в Тамбовские губернские предводители дворянства. Формальная причина заключалась в том, «что на дворянских выборах, происходивших в минувшем декабре в Тамбовской губернии, действовал дух партий, и что кроме того допущены были отступления от установленных правил…» 24. По высочайшему повелению следовало «созвать чрезвычайное губернское собрание дворянства, для выбора других кандидатов, как в звание губернского предводителя дворянства, так и в другие должности, в которые по удостоверению г. начальника губернии избраны лица неблагонадежные, оставив выборы в прочие должности в своей силе (курсив здесь и далее наш. – А. К. )» 25. Таким образом, фактическая причина была в том, что гражданский губернатор в своем представлении в МВД, содержание которого доводилось до монарха, рекомендовал императору не утверждать в должности ни одного из кандидатов.
В полной мере влияние рекомендаций губернатора на процесс утверждения монархом кандидатов на выборные должности отчетливо прослеживается при утверждении итогов выборов губернского предводителя дворянства в Тверской губернии в 1856/57 г. Двадцать четвертого декабря 1856 г. губернатор А. П. Бакунин в конфиденциальном отношении к министру внутренних дел С. С. Ланскому стремился дискредитировать кандидатов на должность губернского предводителя дворянства, чтобы добиться назначения новых выборов. Он писал, «что ни г. Озеров, ни князь Путятин <…>далеко не достойны счастия быть представленными на Высочайшее утверждение, первый потому, что <…> постоянно стремился не к пользам службы, к порядку и к сближению дворянства с губернским начальством, но совершенно бездействовал, проводя не малую часть года в отлучках <…> при съезде дворян для выборов всем изъяснял неудовольствие свое за последнюю награду, которую удостоился получить, в уездах действиями своими ослабил значение предводителей дворянства, выказывая тех из них, которых считал себе неблагоприятными, преданными из личных видов губернским властям, этим восстановил против себя многих гг. предводителей. Все это сильно отразилось при выборах в беспорядках, которыми они сопровождались <…> и, наконец, в разъезде немалого числа дворян пред тем временем, когда следовало избирать кандидатов на должность губернского предводителя дворянства. <…> Второй кандидат князь Путятин <…> совершенно не радел о службе, в которой состоял прошедшее трехлетие (Вышневолоцкого предводителя дворянства) <…> Состоя в тесной дружбе с г. Озеровым, князь Путятин постоянно был деятельным помощником г. Головачева и лиц партии его, действовавших под покровительством г. Озерова про-тиву губернских начальственных лиц» 26.
Не довольствуясь этими обвинениями, Бакунин поставил под сомнение и саму законность голосования на должность губернского предводителя дворянства. Губернатор выдвинул это обвинение, основываясь на том, что баллотированные списки подписаны меньшим числом лиц, чем указано в протоколе баллов (113 подписей и 251 балл) 27. По последнему обвинению следует пояснить, что накануне выборов зарегистрировалось всего 244 избирателя. Однако в ходе выборов часто появлялись новые участники собрания. Кроме этого, некоторые дворяне имели при баллотировании не один, а два шара – по праву владения собственным имением и за жену или иную родственницу, имевшую право голоса по владению недвижимым имением. С учетом этих обстоятельств сумма поданных баллов не вызывает никакого подозрения. Число же подписавших баллотированные списки при выборах по губернии лишь в исключительных случаях совпадало с числом участников выборов, так как после объявления итогов голосования многие дворяне, не дожидаясь составления официальных баллотированных списков, расходились и даже покидали губернский город по своим делам.
Эта повседневность дворянских выборов, которые по декабрьскому указу 1831 г. могли продолжаться 15 дней, а при необходимости и больше, разумеется, была хорошо известна такому опытному бюрократу, как Бакунин. Однако он счел возможным привести свой надуманный довод о несовпадении числа участников выборов с количеством подписей под баллотированными списками против избранных кандидатов как доказательство фальсификации результатов голосования.
Бакунин и на прошлых выборах пытался дискредитировать избранного губернским предводителем Озерова, но тогда он совершенно не преуспел в этом. В этот раз он добился успеха. В январе 1857 г. «Государь император, усматривая, что второй кандидат не соединяет в себе требуемых законом условий, Высочайше повелеть соизволил произвести новые выборы» 28. Резолюция Александра II была противоречива: казалось бы, если один из кандидатов не соответствует критериям, то следовало утвердить другого кандидата, тем более получившего на выборах больше баллов. Однако понятно, что отрицательная характеристика Бакуниным Озерова и повлияла на решение монарха провести новые выборы. Об этом недвусмысленно свидетельствовал С. С. Ланской, докладывая монарху о новых кандидатах на место тверского губернского предводителя. Он напомнил о причине отклонения двух ранее избранных кандидатов: «Ваше императорское величество, усмотрев, что оба кандидата не одобряются начальником Тверской губернии , не изъявили высочайшего соизволения на утверждения кого-либо из них в должности тверского губернского предводителя дворянства и высочайше повелеть изволили произвести на эту должность новые выборы» 29.
Победившие на повторных выборах губернского предводителя кандидаты вновь не устроили Бакунина. В конфиденциальном отношении от 13 февраля 1857 г. к министру внутренних дел он следующим образом характеризовал кандидатов: «…коллежский секретарь Унковский, служивший до сего времени в должности тверского уездного судьи и депутата по хозяйственной поверке отчетности в земских суммах, первую должность исправлял усердно, по последнему же званию дозволял себе действия, противные пользам службы <…> А потому считая себя не в праве положительно сви- детельствовать пред Вашим высокопревосходительством относительно служебных достоинств г. Унковского. <…> Что же касается до второго кандидата на должность губернского предводителя дворянства, коллежского асессора князя Голицына, то по недавнему прибытию его на жительство в Тверскую губернию, он здесь мало известен, удостоился же избрания в почетные попечители гимназии и ныне в кандидаты на должность губернского предводителя дворянства, во внимание к продолжительной службе по выборам во Владимирской губернии» 30. Приведенные характеристики кандидатов свидетельствуют, что Унковский и Голицын не устраивали губернатора. Первый – из-за своей оппозиционности категорически им отвергался, а второй рассматривался как нежелательное лицо, из-за того, что губернатор не был с ним близок и сомневался в его личной лояльности.
Неудовольствие Бакунина повторно избранными кандидатами вызвало раздражение в министерстве внутренних дел. Не назначить же третьи выборы по той причине, что кандидаты не нравятся губернатору! В министерстве рассмотрели обвинения, выдвинутые губернатором против А. М. Унковского, и пришли к заключению, что «в действиях Унковского ничего несогласного с законом не заключается, а, напротив, некоторые замечания депутатов, поверявших отчетность земских сумм, признаны Министерством финансов основательными» 31. Позиция министерств внутренних дел и финансов и дала основания императору для утверждения коллежского секретаря А. М. Унковского предводителем дворянства Тверской губернии 32. Таким образом, вопреки противодействию губернатора, тверское дворянство получило в предводители одного из будущих авторов либерального проекта освобождения крестьян.
Практика утверждения императором губернского предводителя и председателей судебных палат, избираемых дворянством, имела двойственное влияние на отношение монарха и дворянской корпорации. С одной стороны, это укрепляло идентичность дворянства как привилегированного и господствующего сословия, так как утверждение в должности непосредственно императором повышало статус не только избранных лиц, но и всего дворянского корпуса каждой губернии. С другой стороны, создавалась видимость, что между дворянством и царем исчез посредник в лице бюрократии. Для провинциального дворянства этот посредник представал в образе губернатора. Возникшее якобы прямое общение дворянской корпорации и монарха в случае не утверждения последним представленных кандидатов делало правителя «крайним». Ведь в случае не утверждения кандидатов, далеко не всегда справедливого, именно император становился ответственным за принятое решение. Это могло вызвать недовольство дворянства губернии и в конечном счете способствовать десакрализации царя и царской власти в сознании дворянства.
Правящий должность губернского предводителя тамбовский уездный предводитель Сабуров послал 28 февраля 1846 г. отношение уездным предводителям, в котором был важный пункт, свидетельствующий о том, что отказ царя утвердить в должности избранных кандидатов вызывал в кругах дворянства нежелательные настроения: «А как до сведения моего дошло, что о сем предмете распространились повсеместно ложные толкования и сведения, то к прекращению оных прошу Вас, милостивый государь, употребить с Вашей стороны и зависящие меры» 33.
ELECTIONS OF THE NOBILITY IN RUSSIA (1831–1861)
Список литературы Дворянские выборы в России (1831–1861 годы)
- Бикташева А. Н. Антропология власти: казанские губернаторы первой половины XIX века. М.: Новый хронограф, 2012. 496 с.
- Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-м году от рождения моего. СПб.: Наука, 2004. Т. 1. 816 с.
- Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX века // Русская старина. 1899. Т. 97. № 1. С. 3-38.
- Клочков М. В. Дворянское самоуправление в царствование Павла I // Журнал министерства народного просвещения. 1912. № 12. С. 329-375.
- Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России: состав, численность, корпоративная организация. 1861-1904 гг. М.: Наука, 1979. 302 с.
- Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие. 1765-1855 гг. СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1906. 726 с.
- Куприянов А. И. Выборные практики дворянства Московской губернии в конце XVIII - начале XIX в. // Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII века. М., 2012а. С. 228-266.
- Куприянов А. И. Электоральное поведение русского дворянина (1770-1820-е гг.) // Вестник РУДН. Серия: История России. 2012б. № 1. С. 5-19.
- Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2е. СПб.: Тип. II отд. собств. Е. И. В. канц., 1832. Т. 6. Отд. 2. 710 с.
- Романович-Славатинский А. В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб.: Тип. МВД, 1870. 564 с.
- Русские писатели. 1800-1917: Биограф. словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. Т. 5. 800 с.
- Селиванов В. В. Дворянские выборы // Селиванов В. В. Соч. Владимир: Тип. губ. правления, 1902. Т. 2. С. 204-267.
- Шомпулев В. А. Записки старого помещика. М.: Новое лит. обозрение, 2012. 360 с.