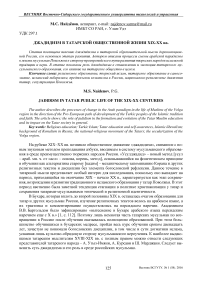Джадидизм в татарской общественной жизни XIX-XX вв
Автор: Найднов М.С.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 1 (58), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена явлению джадидизма в татарской образовательной мысли дореволюционной России, его основным этапам развития. Автором описаны процессы смены арабской парадигмы в жизни мусульман Поволжья в сторону проевропейского пути развития тюркских народов исламской традиции и веры. В статье показаны роль джадидизма в становлении и эволюции татарского мусульманского образования, его влияние на татарское общество в целом.
Религиозное образование, тюркский ислам, татарское образование и самосознание, исламский либерализм, предпосылки кемализма в России, национально-религиозные движения татар, секуляризация поволжья
Короткий адрес: https://sciup.org/142143153
IDR: 142143153 | УДК: 297.1
Текст научной статьи Джадидизм в татарской общественной жизни XIX-XX вв
На рубеже XIX‒XX вв. возникло общественное движение «джадидизм», связанное с новым звуковым методом преподавания азбуки, вводимым в систему мусульманского образования в среде преимущественно тюркских народов России. «Усулджадид» – новый метод [усул – араб. мн. ч. от «асл» – основа, корень, метод], основывавшийся на фонетическом принципе в обучении как альтернатива старому [кадим] – механическому запоминанию Корана и других религиозных текстов и дисциплин без элемента богословской рефлексии. Данное течение в татарской мысли представляет особый интерес для исследования, поскольку оно выпадает на период, приходящийся на окончание XIX ‒ начало XX в., характеризуется как этап сохранения, возрождения и развития традиционного исламского образования у татар Поволжья. В этот период явственно была заметной тенденция стагнации в политике христианизации у татар и сохранения татарами-мусульманами этнической и религиозной идентичности.
В Бухаре, которая вплоть до второй половины XIX в. оставалась очагом образования для татар и других мусульман России, изучение религиозных текстов велось на арабском языке, а их трактовка и комментирование осуществлялись на персидском наречии. Академиком В.В. Бартольдом было зафиксировано «вытеснение в Бухаре арабского языка персидским наречием еще с X в.» [1, с. 112]. Поэтому лишь немногая часть татарских мусульман по возвращении в Россию после обучения оказывалась полноценно образованной. При этом большинство обучившихся в бухарских медресе, пройдя весь курс обучения сроком двенадцать лет, зачастую не понимали богословских дисциплин, в том числе и сути догматики ислама, усваивая лишь культово-обрядовую сторону мусульманского вероучения. К наиболее выдающимся татарским мыслителям XVIII-XIX вв. с полным правом можно отнести следующих представителей татарского народа – А. Утыз-Имяни, А. Курсави и Ш. Марджани. Следует выяснить суть джадидизма и его роль в среде российских мусульман.
Являясь не только образовательно-богословским, но и общественным движением российских мусульман, джадидизм стал реакцией мусульман России в ответ на такие преобразования в жизни государства, как развитие индустриального общества, буржуазные реформы, попытки введения представительного правления и всеобщего образования.
Основоположником джадидизма стал крымский татарин И. Гаспринский (1851-1914). Кроме деятельности, связанной с исламом, он стал известен как автор этнической и культурной концепции тюркизма, являющейся идеологией солидарности тюркских народов России с одним литературным языком, системой просвещения и интеллигенцией.
Его общественно-политические взгляды наиболее полно выражены в изданных на русском языке эссе «Русское мусульманство» (1881) и очерке «Русско-восточное соглашение» (1896). Также им пропагандировались новые идеи на тюркском диалекте, который на тот момент учреждался универсальным для всех тюркоязычных народов России, со страниц основанной им газеты «Тарджиман» («Переводчик»). Отметим, что она издавалась с 1883 г. в течение 20 лет.
И. Гаспринским была издана «Алифба» («Азбука»), в которой он обосновал новый метод. В 1882 г., во время пребывания в Казани «Гаспринский встречался с Марджани, который оказался единственным в городе, кто поддержал его план издания газеты» [2, с. 52], наряду с предпринимателями-золотопромышленниками из Оренбурга Закиром и Шакиром Рамеевыми, основными спонсорами его проекта.
Его метод был вызван несоответствием мусульманского образования требованиям эпохи и включал преподавание в медресе светских наук, тюрки и русского языка. Гаспринский полагал, что «подобные нововведения рано или поздно приведут мусульман России к положению лидеров среди мусульман мира» [3, с. 45-46].
В XIX в. перед татарским обществом стояла первоочередная задача – реформирование медресе. Еще в 1818 г. профессор Казанского университета П. Кондырев и адъюнкт восточного разряда И. Хальфин выдвинули идею об учреждении в Казани Центрального татарского училища для детей татар «из податного состояния», «однако проект не оказался принят Министерством народного просвещения» [13, л. 24]. Спустя полвека, в 1866 г., также не был реализован проект муфтия С. Тевкелева об открытии при Уфимской мечети медресе, где «наравне с религиозными преподавались и светские предметы» [10, л. 31-32].
Фактически первопроходцами реформы медресе еще во второй половине XIX в. выступили: Хусаин Фаизханов, Шихабаддин Марджани и Каюм Насыри. Они были сторонниками глобальных новаторских преобразований в мусульманском просвещении. Если у Фаизханова проект «Школьная реформа» оказался нереализованным, тогда как Марджани и Насыри внедрили новые методы в татарской образовательной среде. Ими была подготовлена база для джа-дидского медресе.
Однако создание учебного заведения для мусульман, которое в полной мере соответствовало требованиями своего времени, удалось осуществить именно И. Гаспринскому в 1884 г. в Бахчисарае. Его начинание распространилось за пределы основных очагов тюркоязычных мусульман Российской империи (Поволжья, Приуралья, Туркестана, Бухары, Азербайджана) в Турцию, Персию и даже в Индию. В 1911 г. Гаспринский едет в Индию, где в Бомбее было издано его учебное пособие «Ходжа субъан», и «участвует в открытии джадидской школы, проводит в ней демонстрацию своего метода непосредственно на занятиях» [15, с. 469].
В Средней Азии вслед за Гаспринским известными среднеазиатскими джадидами ‒ М. Бехбуди, А. Фитрат, А. Дониш, были выдвинуты требования «борьбы за реформу учебных заведений, введения светских наук» [5, с. 21].
Идеи джадида, направленные на развитие тюркского мира, получили финансовую поддержку тюркской крупной торговой и промышленной буржуазии.
На рубеже XIX–XX в. наравне с русским в татарском обществе появляется прослойка среди той части молодежи, которая училась в престижных университетах Западной и Центральной Европы, прекрасно ознакомленной с европейскими достижениями в научной и общественно-политической жизни общества. Новым поколением образованных молодых людей Вестник ВСГУТУ. № 1 (58). 2016 126
считалось, что реформа образования есть первый шаг в процессе становления татарской культуры новой эпохи. Реформа образования была во всех отношениях ключевой для татарской духовной культуры начала XX в. Необходимо было не отстать от веяний времени и адаптироваться к требованиям эпохи. Реформа обучения предполагала кардинальное преобразование целого комплекса образования (финансирование и структурное построение). Источник финансирования виделся джадидам не только в частных инициативах, но и в поддержке государства.
Также имамы приходов, содержание которых зависело напрямую от сбора общественных денег и от местных меценатов, не желали выделять деньги на новых учителей, поскольку все занятия вели сами муллы или же хальфы – ученики старших классов медресе, получившие право преподавания. Оппозиция джадидам возникла и по той причине, что многие имамы не желали перестроить свое понимание образования в соответствии с духом времени. Имамы интересовались интеллектуальными тенденциями современности и воспринимали новации в области образования и даже частично воплощались идеи джадидизма на практике. Таким образом, представители татарской буржуазии «новой волны» (на смену представителям купеческих династий Апаковых, Азметьевых, Бурнаевых, Юнусовых пришли коммерсанты нового типа – Галеевы, Галикеевы, Казаковы, Хусаиновы), интеллигенции, получившие современное европейское образование, «имамы-интеллектуалы» стали основной базой в обществе для джа-дидизма. При этом прежнее поколение ‒ муллы-имамы, стремившиеся любой ценой сохранить без изменений свое привилегированное положение, часть буржуазии «старой волны» (вышеназванные) и «имамы-интеллектуалы», испытывающие крайнее неприятие к европейским ценностям, были главной опорой кадимизма ‒ прежнего подхода к образованию.
Однако само деление на социальные группы, поддерживавшие джадидские или кади-мистские идеи, оставалось весьма условным. Из кадимитского лагеря могли перейти в джад-идский как «муллы-интеллектуалы», так и часть татарской буржуазии. Определенная часть мулл-кадимитов, отстаивая в споре с джадидами свою позицию по реформе образования, видела путь сохранения татарской нации исключительно в лоне арабо-мусульманской цивилизации, опасаясь ассимиляции татар под воздействием европейской культуры. Однако данная теоретически осмысленная позиция являлась опорой лишь для немногих кадимитов. Вопросы кадимистского образования были только частью идеологии более широкого направления – консервативного, ортодоксального.
Идейное столкновение кадимизма и джадидизма, разделение татарского общества на оппозиционные лагеря выражались и в средствах пропаганды: кадимистская газета «Дин вама ишат» («Религия и жизнь») противостояла газете И. Гаспринского «Тарджиман» («Переводчик»).
Джадидское движение можно условно разделить на два этапа: «первый – 80-е гг. XIX в. – 1905–1907 гг., второй – 1907 г. – октябрь 1917 г.» [3, с. 50].
На первом этапе в джадидских школах был популярен вышеупомянутый диалект тюркского языка, искусственно выделенный в самостоятельный язык тюрки, а после 1907 г. преподавание велось уже по новым учебникам, составленным на отдельных тюркских языках.
Так как кадимитские школы преобладали в сельской местности, им удавалось противостоять новометодным учебным заведениям в городах. Но после революции большинством школ в крупных городах Поволжья и Приуралья был принят новый метод обучения. Среди них в Казани можно выделить следующие медресе: «Мухаммадия», «Апанаева», «Марджани»; в Уфе – медресе «Галия» и «Усмания»; в Оренбурге – «Хусаиния», медресе «Мухаммадия», возглавляемое татарским мыслителем Галимджаном Баруди. Также им был создан новометод-ный букварь «Савадхан» («Начальная грамота»), обеспечивший ему популярность в среде мусульманской общественности. Данное произведение в течение 1891-1915 гг. выдержало 12 изданий. Много новометодных школ появились также и в сельской местности.
Приятие джадидов во многом было обусловлено заимствованием ими элементов европейской общеобразовательной системы: деление на классы, годовые экзамены, расписание уроков. Также новым стало использование на уроках классной доски, журналов успеваемости и географических карт.
Однако в школах количественно преобладали религиозные дисциплины, а преподавание светских предметов носило скорее общий, нежели углубленный характер. Джадидская школа стала переходной формой от строго конфессионального обучения на пути к светскому образованию, свободному от влияния религии. При этом современные реалии, потребность в светских специалистах все настоятельнее требовали освобождения школы нового метода от примата религии в ней.
Выступившее на арену полемики об образовании движение шакирдов в 1905–1907 гг. выступало за изменение системы преподавания медресе и являлось лишь откликом на вызов эпохи. Шакирды выступили с требованиями реорганизации в системе мусульманского образования: лекции должны дифференцироваться между преподавателями по их специальности, преподавание светских наук и теологии должно соответствовать развитию этих дисциплин в мировом образовании, учащиеся должны принимать активное участие в разработке и организации самоуправления в медресе.
В 1906 г. 1500 казанских шакирдов «в знак протеста против формального, схоластического характера образования прекратили учебу» [8, с. 35-37]. Волна аналогичных протестов появилась и в джадидских медресе Уфы и Оренбурга. Эти факты свидетельствуют об утрате популярности школ кадимитов: тюркскому обществу в целом и татарскому в частности требовалась светская школа с преподаванием некоторых религиозных дисциплин.
Уфимское медресе «Галия» во главе с татарским мыслителем З. Камали по количеству преподаваемых светских дисциплин, причем по углубленному изучению химии, тригонометрии, истории татарского народа, «существенно отличалось от передовых джадидских медресе, таких, как «Мухаммадия» в Казани, «Усмания» в Уфе и «Хусаиния» в Оренбурге, и уступало лишь Иж-Бубинскому медресе, где религиозные науки занимали лишь 16 % от общего числа преподаваемых предметов» [4, с. 40].
В конечном счете противостояние шакирдов и мулл закончилось компромиссом, в результате которого преподавание по новому методу оказалось введенным, но с обязательным условием сохранения преобладания в учебном плане религиозных дисциплин. Таким образом, движение шакирдов 1905–1907 гг. показало, что в татарском обществе существует потребность как в светском, так и в религиозном образовании. Отсутствовало государственное финансирование медресе: они содержались на пожертвования меценатов и рядовых верующих. Во многом это было обусловлено сохранявшимся указом Екатерины II «Об открытии Духовного собрания мусульман»: медресе были формально признаны государством: однако государство не вмешивалось в дела медресе, поскольку российское законодательство признавало неприкосновенность частной собственности.
В то же время сторонники кадимизма развернули пропаганду против джадидских идей, выпустив ряд книжных изданий: «Мисбах ал-хаваши баррмелла Джалал» («Светоч субкомментариев досточтимого муллы Джалала») шейха ат-Тунтари (Санкт-Петербург, 1899), «Ну-сул ал-хадида фи хилаф ал-усул ал-джадида» («Стальной клинок против новой методики») Мухиддина ас-Сардавиал-Казани (Санкт-Петербург, 1899). Кадимитами критиковались современные науки, ценность знания как такового ими вовсе не признавалась. Так, Мухиддин ас-Сардави писал о джадидских медресе: «Знайте, что в новометодных медресе убивают время шакирдов без пользы, их учат читать сказки на татарском языке, учат рисовать, их обучают таким бесполезным вещам, как география и история. Еще одно отличие новометодников от общей массы мусульман заключается в том, что они переводят книги на татарский язык или сами пишут книги на татарском языке, а затем преподают по этим книгам» [11, с. 40-47].
Кадимистам удалось склонить на свою сторону царское правительство. В 1913 г. министр внутренних дел России Н.В. Маклаков писал по этому поводу: «Движение в пользу но-вометодных школ встретило противодействие в лице консервативных представителей мусульманского духовенства. Будучи движимы побуждениями чисто религиозными, такие лица, в сущности, сами того не сознавая, являются союзником властей в борьбе с нежелательной, с государственной точки зрения, национализацией мусульманской школы» [12, л. 3].
К сожалению, данная тактика правительства оказалась не совсем удачной, поскольку это привело к правовым конфликтам. Раз в новометодных школах вводятся светские предметы, то они перестают быть конфессиональными, попадая под компетенцию Министерства просвещения, учебные заведения которого по закону не имели права преподавания на инородческих языках. Следовательно, открытие светских учебных заведений на татарском языке обучения противоречило законодательству Российской империи. Именно по этой причине в 1901 г. по приказу губернатора Оренбурга «были закрыты педагогические курсы в Сеидовом посаде» [20, с. 222].
Кроме того, кадимисты стремились любыми способами вытеснить джадидистов. Так, в 1911 г. в результате доноса со стороны кадимистов было закрыто медресе «Буби», являвшееся самым передовым мусульманским образовательным учреждением России, находившееся в селении Иж-Буби Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Агрызский район Татарстана), с арестом всего преподавательского коллектива. Руководителям медресе братьям Буби оправдательный вердикт вынесли «только в 1912 г.» [14, с. 14].
Однако существовали и вполне реальные основания для приостановления джадидской деятельности. В мае 1908 г. в панисламизме был замечен глава «Мухаммадии», главный редактор джадидского журнала «Дин ва-л-адаб» («Религия и воспитание») Галимджан Баруди, арестован и сослан в Вологодскую губернию (через четыре месяца ему «удалось добиться разрешения выехать за рубеж» [7, с. 15]). Из-за проявившейся угрозы панисламизма джадидские школы воспринимались в обществе настороженно и «оставались под жестким контролем царских властей до начала Первой мировой войны» [16, с. 81].
В дальнейшем термин «джадидизм» стал трактоваться довольно широко. Одной из причин такого подхода послужила возросшая популярность джадидского образования в России к началу XX в., и в связи с этим традиционалистами-кадимистами к сторонникам нового метода причислялись и те деятели, которые к джадидизму имели весьма косвенное отношение. Тун-тари называл деятельность Курсави и Марджани новометодной, распространяя «употребление термина «джадидизм» преимущественно в негативном контексте, на сферу религии и философии» [17, с. 51]. Постепенно такое понимание термина проникает и в печать начала XX в.: к джадидизму стали относить любое заимствование технических и гуманитарных достижений европейской науки. В силу этого джадиды стали восприниматься сторонниками всего нового, прогрессивного в культуре и в общественной жизни татарского народа и тюркского мира в целом.
Также следует рассмотреть развитие джадидизма в Сибири. В отличие от Поволжья в Сибири окончательно ислам укрепил свои позиции среди тюркского населения региона только в середине ХVIII ‒ начале ХIХ в.
В Сибири идеи джадидизма оказались созвучны чаяниям значительной части местного тюркского сообщества (особенно в среде купечества), придав динамику происходившим здесь общественным процессам. Последнее выразилось в конфликте между «старыми» и «молодыми (джадидами) муллами, о чем сообщал «Тобольский церковный листок» 7 июля 1913 г. [9]. К тому же в отличие от поволжских богословов местное мусульманское духовенство в силу малого числа не выступило как серьезный противник для трансформации многих сфер духовной жизни соплеменников, являясь органичной частью местного сообщества. Ислам среди местного тюркского населения утвердился посредством влияния миссионеров из Поволжско-Уральского региона, арабского мира и Центральной Азии в ХVIII–ХIХ вв.
В повседневной культуре и в духовных представлениях исламские догмы долго соседствовали с элементами тэнгрианства и шаманизмом. Джадидизм получил распространение в Тобольской губернии первоначально с помощью получаемой литературы и благодаря выпускникам (в том числе уроженцам Сибири) джадидских учебных заведений Поволжья, Центральной Азии и Приуралья, работающим преподавателями в медресе и имамами в мечетях.
Если в старометодных школах (называвшихся «ысул кадим») ученики обучались начальной грамоте в среднем 3–5 лет, то в джадидских (новометодных) ‒ один год. Первым из подобных учебных заведений в Сибири стало медресе в Улуг-Манчиле (Ембаевских юртах) ‒ 129 Вестник ВСГУТУ . № 1 (58). 2016
поселении, основанном переселившимися из Средней Азии узбеками, таджиками, уйгурами, казахами, здесь отатарившимися вследствие инокультурного окружения. Медресе было преобразовано в новометодное в 1890 г. Позднее появились новые медресе и мектебе и в других районах. В этих учебных заведениях существенно расширилось изучение многих светских дисциплин. Был установлен твердый учебный год и осуществлен переход от заучивания к более прогрессивной ‒ классно-урочной системе преподавания. Тогда же в Ембаево и Тобольске при джадидских школах «открылись женские отделения» [19, с. 133-146]. Преподавание в школах переходило с арабского языка и тюрки на татарский язык, который обрел статус учебного предмета. Появились предпосылки для развития литературных форм татарского языка. Под влиянием идей джадидизма издали свои произведения выдающийся просветитель, преподаватель медресе в Ембаево М. Юмачиков (1891), переводивший на тюркский язык и фарси; поэтесса из Томска Б.-Х. Ниязи (1897), переводчик Х. Ченбаев (1911–1917) [21, с. 23-31]. Вскоре джадидские учебные заведения широко распространились, потеснив старометодные. На всю Тобольскую губернию в конце ХIХ в. из 275 поселений в 63 существовали 63 медресе и мектебе.
Только в Тобольском уезде в 1909 г. насчитывалось 12 джадидских мектебов и медресе, где обучалось 800 мальчиков и девочек. Накануне революции 1917 г. в Томске существовало общество мусульман-прогрессистов, распространявших свое влияние на всю Западную Сибирь. Джадиды были инициаторами первых театральных постановок на татарском языке любительскими объединениями, способствуя духовному развитию и расширению культурного кругозора мусульманского населения края [18].
На примере противостояния джадидизма и кадимиза можно сделать вывод о том, что в начале XX в. татарская общественная мысль, с одной стороны, продолжила традиции мусульманской философии (реформаторство). С другой стороны, ею были широко восприняты идеи, распространившиеся в Западной Европе (просветительство, либерализм, социализм). Поэтому можно сказать, что джадидизм стал не только для татарского, но и для всех тюркских народов примером религиозного реформаторства, просвещения, либерализма. А в самой России представлялся дальнейший путь секуляризации ислама и национальной жизни татар, весьма схожий с аналогичными процессами, которые произошли в Турции под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, который руководствовался принципами европейской секуляризации и успешно воплотил их в государственную и общественную жизнь.
Список литературы Джадидизм в татарской общественной жизни XIX-XX вв
- Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. -М., 1963. -250 с.
- Валиди Дж. Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 1917 г.). -М; Пг., 1923. -С. 198.
- Вакыт. -1908. -27 сентября. -4 б.
- Валиханова В.С. Джадидизм: возникновение и сущность//История национальных политических партий России. -М., 1997. -С. 19-27.
- Гаспринский И. Россия и Восток. -Казань, 1993. -544 с.
- Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. -М., 1999. -Вып. 2. -С. 13-20.
- Казан мухбире. -1906. -№ 44. -С. 35-37.
- Лысов А.П. Народное образование в Тюменском округе в 1897 году. -Тюмень: Типография «Сибирской торговой газеты», 1898. -150 с.
- Мусина Р. Ислам среди городских татар: анализ современной ситуации//Исламо-христианское пограничье: итоги и перспективы изучения. -Казань, 1994. -Кн. 1. -250 с.
- Мухиддин ас-Сардавиал-Казани. Нусул ал-хадида фи хилаф ал-усул ал-джадида. -Казань, 2004. -С.40, 47.
- Национальный архив РТ. -Ф. 92. Оп. 1. Д. 962. Л. 24 а, б.
- НАРТ. -Ф.1. Оп. 4. Д.5482. Л. 3.
- НАРТ. -Ф. 41. Оп. 11. Д. 1-6. -300 с.
- Рахимов С. Социально-правовой статус учебных заведений последней четверти XIX -начала XX в.//Ислам в татарском мире: история и современность. -Казань, 1997. -С. 75-90.
- Самойлович А. Обзор//Мир ислама. -1912. -Т.1. -500 с.
- Тунтари И. Булганфикер. -Казан, 1900. -10, 24 б. -380 с.
- Хакимов Р. «Евроислам» в межцивилизационных отношениях//НГ-религии. -1997.
- ЦГИА Республики Башкортостан. -Ф. 295. Оп. 11. Д. 80. Л. 31-32; Ф. 2. Оп. 1. Д. 15234. Л. 1-8.
- Шараф Б. Гани бай. -Оренбург, 1913. -350 с.
- Юрцовский Н.С. Очерки по истории просвещения в Сибири (1703-1917 гг.)//Общий ход развития школьного дела в Сибири. Вып. 1. -Новосибирск, 1923. -С. 23-31.