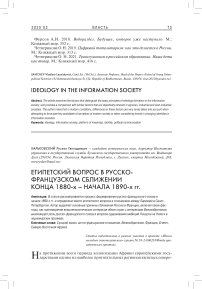Египетский вопрос в русско-французском сближении конца 1880-х — начала 1890-х гг.
Автор: Харьковский Р.Г.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Материалы конференции школы молодых этнополитологов
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс формирования русско-французского союза в начале 1890-х гг. и определено место египетского вопроса в отношениях между Парижем и Санкт-Петербургом. Автор выделяет основные причины сближения России и Франции, включая такие факторы, как противоречие внешнеполитических интересов обеих стран с интересами Великобритании, анализирует роль русско-французского союза в вопросе сдерживания амбиций Лондона на Ниле и в черноморских проливах.
Суэцкий канал, англо-французские отношения, великобритания, франция, египет, северо-восточная африка
Короткий адрес: https://sciup.org/170210341
IDR: 170210341 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-73-80
Текст научной статьи Египетский вопрос в русско-французском сближении конца 1880-х — начала 1890-х гг.
Статья подготовлена в рамках участия в проекте «Школа молодого этнополитолога» (грант № 24-2-006218 Фонда президентских грантов).
а протяжении всего периода колонизации Африки европейскими государствами одним из наиболее притягательных регионов являлась северо- восточная часть континента, где располагались такие государства, как Египет и Судан. Возрастанию интереса к данным территориям во многом способствовало завершение в 1869 г. строительства Суэцкого канала, который очень быстро превратился в одну из стратегически важных водных артерий. По этой причине в конце XIX в. не только Англия и Франция, занимавшие доминирующее положение в регионе, интересовались ситуацией в Египте, но и другие европейские державы.
Актуальность исследования обусловлена современным состоянием международных отношений на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Африке. Многие политические и экономические связи между Египтом, Суданом и ведущими европейскими государствами тянутся еще с середины XIX в., а потому, выстраивая отношения с государствами Ближнего Востока и СевероВосточной Африки сегодня, необходимо понимать, какие события предшествовали их текущему состоянию.
Цель данной работы – охарактеризовать роль, которую сыграл египетский вопрос в русско-французском сближении конца 1880-х – начала 1890-х гг., и обозначить позицию других государств в отношении долины Нила в этот период.
Долгое время Северо-Восточная Африка привлекала в первую очередь Великобританию и Францию, однако после сооружения Суэцкого канала взгляды большинства ведущих европейских государств устремились в сторону Египта [Турк, Кияшко 2020: 351]. К тому моменту французы и англичане заняли весьма прочные позиции в регионе, а потому их влияние в Египте в 1870-х гг. было подавляющим по сравнению с другими державами. Совместный англо-французский финансовый контроль над Египтом в силу разных обстоятельств устраивал оба государства, но ему не суждено было долго продлиться. Восстание 1881 г. под руководством Ораби-паши разрушило сложившийся временный баланс сил. Великобритания, проявив инициативу по подавлению этого выступления национальных сил, в 1882 г. оккупировала Египет [Кашанян 2019: 56].
Положение британских войск на территории Египта долгое время оставалось весьма шатким. Формально Египет все еще принадлежал Османской империи, поэтому после подавления восстания английским солдатам было необходимо покинуть регион. Тем не менее Константинопольская конференция, состоявшаяся в августе 1882 г., ознаменовала победу британской дипломатии и закрепила статус-кво англичан на территории Египта [Хизриев 2016: 26], что устраивало далеко не все государства, прежде всего Францию и Россию, каждая из которых имела свои интересы в регионе. Попытки России придать египетскому вопросу международный характер не были поддержаны другими участниками Союза трех императоров [Хизриев 2015: 61], что сыграло на руку Великобритании, фактически превратившей Египет в свою новую колонию.
Подобные действия со стороны Лондона, в конечном счете, способствовали русско-французскому сближению в конце 1880-х гг. Великобритания не желала идти на компромиссы в египетском вопросе, т.к. международный контроль не устраивал англичан. Германия, в свою очередь, стремилась не обострять конфронтацию с Англией, поэтому долгое время оставалась в стороне. Больше всего политика Лондона не устраивала Францию и Россию. После британской оккупации первой пришлось поступиться своим ключевым положением в Египте, а вторая не желала дальнейшего усиления Великобритании в Северо-Восточной Африке, что подталкивало оба государства к сотрудничеству в данном вопросе.
В 1888 г., после подписания конвенции о Суэцком канале, предусматривавшей свободный проход через канал любых судов без различия флага как в мирное, так и в военное время, казалось, был достигнут определенный прогресс в вынесении египетского вопроса на международный уровень. Однако из-за того, что фактически контроль над каналом оставался в руках британских войск, содержание конвенции не имело реального веса в глазах других государств.
В это же время начала более отчетливо проясняться расстановка сил на международной арене. В 1882 г. был создан Тройственный союз, в который вошли Германия, Италия и Австро-Венгрия, а в 1887 г. – Средиземноморская Антанта, включавшая Италию, Австро-Венгрию и Великобританию. Таким образом, в конце 1880-х гг. лишь Франция и Россия оставались вне рамок какого-либо союза [Харламова 1957: 23], что определенно подталкивало их к взаимному сотрудничеству.
Тем не менее поворот в сторону сближения интересов Парижа и Санкт-Петербурга долгое время не был окончательно предопределен. Несмотря на отсутствие между двумя государствами явных противоречий, в правящих кругах России все еще царили преимущественно прогерманские настроения.
Министр иностранных дел России при Александре III (1881–1894) Николай Карлович Гирс (1882–1895) полагал, что французские требования в Египте, обусловленные в большей степени частными интересами, ни в коей степени не должны волновать Россию, говоря, что «не нам исправлять ее [Франции] политические ошибки» [Giers 1924: 184]. О Великобритании Гирс имел мнение даже хуже, чем о Франции, считая, что основная цель Англии «помешать распространению нашего влияния на Черном море» [Giers 1924: 180]. По этой причине, несмотря на то что создание Тройственного союза и Средиземноморской Антанты временно повысило градус напряженности между Германией и Российской империей, отношения между странами оставались достаточно теплыми. Однако сильное влияние на изменение внешнеполитических приоритетов России в этот период оказала твердая позиция Александра III, имевшего стойкую неприязнь к пришедшему в 1888 г. к власти в Германии императору Вильгельму II (1888–1918). Первый помощник Гирса В.Н. Ламздорф отмечал, что российский правитель очень негативно настроен по отношению к новому германскому императору, что наиболее ярко было выражено в его отказе посетить Берлин в 1890 г1.
Александр III, являясь «человеком сильных привязанностей и таких же сильных антипатий», не стремился к сотрудничеству с немецкой стороной [Kennan 1979: 60]. При этом российский император также не являлся франкофилом, поэтому не спешил вступать в союзнические отношения с Францией. Первые активные шаги на пути к сближению позиций Парижа и Санкт-Петербурга были предприняты лишь в 1891 г., что было обусловлено не столько желанием обеих сторон, сколько объективной необходимостью объединиться перед лицом угрозы в виде Тройственного союза и тяготеющей к нему Великобритании.
В августе 1891 г. Гирс, обычно занимавший прогерманскую позицию, в письме к русскому послу в Париже Моренгейму отмечал, что в разговоре с французским послом пришел к пониманию необходимости «установить позицию, которая при нынешних условиях в случае возникновения известных обстоятельств была бы наиболее целесообразной для обоих наших пра- вительств», что свидетельствовало об определенном прогрессе в налаживании русско-французских отношений [Харламова 1957: 23]. Вскоре после этого Моренгейм получил письмо от министра иностранных дел Франции Рибо (1890–1893), в котором тот от лица правительства республики подтвердил согласие Парижа присоединиться к соглашению с Россией по следующим двум пунктам, сформулированным Гирсом в предыдущем письме.
«1) В целях определения и утверждения сердечного согласия, объединяющего их, и желая сообща способствовать поддержанию мира, который является предметом их самых искренних желаний, оба правительства заявляют, что они будут совещаться между собой по каждому вопросу, способному угрожать всеобщему миру.
2) В случае, если мир оказался бы действительно в опасности, и в особенности в том случае, если бы одна из двух сторон оказалась под угрозой нападения, обе стороны уславливаются договориться о мерах, немедленное и одновременное проведение которых окажется в случае наступления означенных событий, необходимым для обоих правительств»1.
Таким образом, посредством обмена этими двумя письмами между Россией и Францией было заключено соглашение, называемое «консультативным пактом», согласно которому обе стороны обязывались совещаться друг с другом в случае опасности.
Примечательно, что русско-французское соглашение 1891 г. распространялось не только на агрессию со стороны Тройственного союза, а носило более широкий характер. Действие консультативного пакта не было ограничено какими-либо территориальными границами или конкретными государствами. Со слов французского посла, речь шла о том, чтобы «обеспечивать мир не только в Европе» [Welschinger 1919: 109], что определенно шло на пользу русско-французским отношениям, предоставляя обоим государствам возможность предпринимать совместные действия на любом фронте.
Важную нишу в отношениях между Парижем и Петербургом в этот период занимал восточный вопрос. Интересы России были сосредоточены преимущественно в Средиземноморье, где она не могла отказаться от своего влияния даже под угрозой конфронтации с Великобританией и членами Тройственного союза. Францию же больше всего волновала судьба Египта, британское присутствие в котором с 1882 г. лишь сильнее укрепилось. Россия не имела прямых интересов в Северо-Восточной Африке, однако Гирс был согласен с тем, что «присутствие английских отрядов в долине Нила – факт ненормальный для Средиземноморья» [Айвазян 2014: 134], в связи с чем российское правительство выражало готовность оказать Франции определенную поддержку в египетском вопросе.
В августе 1892 г. положения ранее заключенного русско-французского консультативного пакта были развиты в проекте военной конвенции, которая предусматривала конкретные условия оказания Россией и Францией военной поддержки друг другу. Согласно первому пункту конвенции, «если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать, для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать, для нападения на Германию»1. Второй же пункт конвенции предусматривал, что в случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него держав Россия и Франция «мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы и выдвинут их как можно ближе к своим границам»2.
В проекте конвенции, помимо упомянутых выше пунктов, было указана численность войск, которые должны быть использованы Францией (1 300 тыс.) и Россией (700–800 тыс.) для борьбы с Германией. Также были конкретизированы отдельные положения консультативного пакта, а именно: генеральные штабы обеих сторон обязывались совещаться как в мирное, так и в военное время по вопросам противодействия армиям Тройственного союза.
Приведенные положения проекта военной конвенции демонстрируют, что в Петербурге и Париже были сильно обеспокоены возможной агрессией со стороны Тройственного союза. Тем не менее необходимо отметить, что русско-французское сближение носило не только антигерманский, но и антибританский характер, т.к. именно Англия являлась основной соперницей России в Средиземноморье и Франции – в Египте. Несмотря на то что официально ни русско-французский консультативный пакт 1891 г., ни подписанная в следующем году военная конвенция не ставили перед собой цели противостоять Великобритании, они явно были направлены в т.ч. и против английских интересов. «Поддержка русских помогала французам угрожать Англии на Ниле; а французская поддержка помогала русским грозить Британии в проливах» [Robinson, Gallagher 1961: 347] – такой баланс сил одновременно устраивал и Францию, и Россию, что в значительной степени способствовало укреплению русско-французского сотрудничества.
В конце 1893 г. Александр III «оставил все сомнения» насчет союза с Францией и 14 декабря окончательно одобрил проект военной конвенции3. На следующий день Гирс отправил послу Франции в Санкт-Петербурге Монтебелло письмо, в котором отметил положительный ответ императора на представленное соглашение, говоря о том, что оно может рассматриваться как принятое Россией4. В ответном письме Монтебелло Гирсу от 23 декабря 1893 г. было указано, что «президент республики и французское правительство также рассматривают вышеупомянутую военную конвенцию, текст которой одобрен той и другой стороной, как подлежащую выполнению», что ознаменовало официальное закрепление русско-французского союза5.
Основной целью объединения усилий России и Франции оставалась защита от агрессии со стороны Тройственного союза и конкретно Германии, однако готовность Парижа и Санкт-Петербурга обсуждать колониальные вопросы и предпринимать совместные действия не только на территории Европы дала обоим государствам возможность вести более смелую внешнюю политику. Этим не преминула воспользоваться Франция, которая в 1893–1894 гг. активизировала свою деятельность в Судане, чем сильно встревожила своих британских соперников [Смирнов 1968: 133-134].
Интересы Парижа в Судане были обусловлены проведенным в 1893 г. исследованием французского инженера Виктора Прома, утверждавшего, что там можно построить дамбу, которая позволит контролировать водоснабжение Египта [Морозов 2008: 191]. Таким образом, для Великобритании установление французского контроля над Суданом означало бы потерю своего влияния на оккупированной территории. Как справедливо выразился один из активных французских колониалистов капитан Монтель, «Египет без Судана – это бессмысленное владение»1. Французское и английское правительства также это понимали, что привело к очередному обострению англо-французского противостояния в Северо-Восточной Африке.
Тем не менее, если ранее Франция не решалась выступать с каким-либо активным противодействием британским интересам, в этот раз в Париже понимали, что у них есть надежный союзник в лице России. Это в значительной степени развязывало Франции руки, т.к. она более не рисковала остаться в международной изоляции в случае ухудшения отношений с Великобританией. Следует отметить, что Россия не оказывала какой-либо существенной поддержки колониальным планам Франции в отношении Судана, поскольку данный вопрос находился исключительно в сфере французских интересов. Однако сам факт того, что в Париже больше могли не бояться остаться без союзников перед лицом Тройственного союза или Великобритании, позволял французскому правительству действовать решительнее, чем раньше.
Что же касается позиции Лондона в этот период, она оставалась двойственной: с одной стороны, интересы Великобритании в значительной степени пересекались с французскими и российскими устремлениями на Востоке, что делало достижение согласия между ними весьма трудной задачей, с другой – Англия не спешила с установлением теплых отношений с Германией, опасаясь появления нового сильного соперника. Ситуация, сложившаяся на международной арене, позволяла Великобритании выбирать, к какому блоку примкнуть, что, в свою очередь, оказывало давление на Россию и Францию, предполагавших возможность англо-германского сближения.
Подводя итог, следует отметить, что русско-французское сближение началось в конце 1880-х гг. и было обусловлено рядом факторов: во-первых, создание Тройственного союза склонило мировой баланс сил в сторону Германии и тем самым подтолкнуло другие государства к поиску альтернативного союзнического блока; во-вторых, образование Средиземноморской Антанты фактически означало сближение Великобритании со странами Тройственного союза, что значительно взволновало Россию и Францию, остававшихся единственными государствами вне какого-либо блока; в-третьих, если Тройственный союз угрожал интересам России и Франции в Европе, то Великобритания проводила активную колониальную политику на Востоке, что также шло вразрез с целями русской и французской внешней политики. Таким образом, к началу 1890-х гг. были созданы все предпосылки для оформления русско-французского союза.
Большую роль в отношениях между Парижем и Санкт-Петербургом в этот период сыграла личность Александра III, испытывавшего сильную непри- язнь к императору Германии Вильгельму II, что окончательно предопределило поворот внешней политики России в сторону Франции.
Восточный вопрос в целом и египетский в частности, в свою очередь, сыграли роль укрепляющего фактора в русско-французских отношениях, т.к. заключенный в 1891 г. консультативный пакт не ограничивался какими-либо территориальными границами, что привело к возможности открытого диалога между Россией и Францией не только по поводу безопасности в Европе, но и в отношении ситуации на Востоке и в Северо-Восточной Африке. Взаимная поддержка и обоюдный учет интересов другой стороны позволили России и Франции укрепить свое положение на международной арене и проводить более активную внешнюю политику, не боясь остаться вне союза в случае конфронтации с Великобританией или державами Тройственного союза.