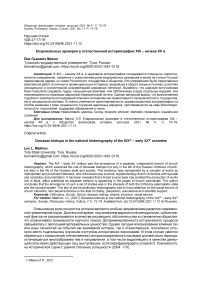Епархиальные архиереи в отечественной историографии XIX – начала XX в.
Автор: Лев Львович Махно
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
В XIX – начале XX в. в церковной историографии складывается отдельное самостоятельное направление, связанное с осмыслением роли епархиальных архиереев в жизни не только Русской православной церкви, но также Российского государства и общества. Это направление было представлено комплексом работ столичных и провинциальных историков, вводивших в оборот новые источники, дополняя синодальной и консисторской документацией церковные летописи. Выявлено, что широкая источниковая база позволяла создавать труды, насыщенные фактами, или публикуемые в виде отдельных изданий, или появлявшиеся на страницах церковной периодической печати. Сделан авторский вывод, что возникновение подобного комплекса исследований отвечало интересам как православного патерналистского государства, так и синодальной системы. В статье отмечается ориентированность дореволюционной историографии на особое внимание к теме социального служения церковных иерархов, прославившихся на ниве благотворительности, нищелюбия, поддержки образования и науки
Православие, церковь, Синод, епархия, епископ, империя, провинция, социальное служение
Короткий адрес: https://sciup.org/149136611
IDR: 149136611 | УДК: 27“17/19” | DOI: 10.24158/fik.2021.11.12
Текст научной статьи Епархиальные архиереи в отечественной историографии XIX – начала XX в.
Тульский государственный университет, Тула, Россия, ,
,
В настоящей статье уделено внимание изучению вклада светских и церковных историков XIX – начала XX в. в осмысление роли представителей церковной иерархии в лице епархиальных архиереев в жизни как Русской православной церкви, так и Российского государства и общества в разные периоды исторического развития. Выбор темы обусловлен существованием в имеющейся историографии комплекса специальных исследований, посвященных наиболее значимым представителям церковной иерархии XIX – начала XX в.1
Некоторые преосвященные оказались в поле зрения историков, осмысливавших в целом историю Русской православной церкви в обозначенный период, например митрополит Питирим (Окнов)2. В основном современные исследователи не разделяют апологетическое отношение к личностям архиереев предреволюционной эпохи и нередко подвергают жесткой критике некоторых из них, характеризуя как «типичных архиереев Синодальной Церкви» (Фирсов, 2010: 23). В то же время в литературе принимаются во внимание и заслуги других архипастырей, таких как митрополит Антоний (Вадковский).
Следует также принять во внимание существование на провинциальном уровне в досоветский период большого массива работ, описывающих деяния разных иерархов в пределах епархий, часто публицистического характера. Кроме того, интересно проследить возможное влияние «синодальной» эпохи на характеристику церковных деятелей епархиального уровня в исследованиях крупных историков, создававших свои труды в стенах ведущих духовных академий Российской империи. Нет сомнения, что на их произведения оказывала воздействие, среди прочих факторов, эволюция методологии исторического исследования – от провиденциализма в начале XIX в. до позитивизма в начале XX в. (Солнцев, 2018). В соответствии с доминирующей концепцией менялся и взгляд на деяния отдельных иерархов, которые могли не попасть в поле зрения авторов. Попытки создать обобщающие труды могли привести к неизбежному замалчиванию вклада архиереев, занимавших многочисленные кафедры, в историю Русской православной церкви, которые «терялись» в тени крупных фигур отечественной истории.
Зачастую церковные историки XVIII – начала XIX в. стремились анализировать действия архипастырей, как и всего остального православного духовенства, с патриотических позиций, отдавая должное каждому представителю этого сословия. Так, митрополит Платон (Левшин), работа которого по церковной истории открывает церковную историографию XIX в., положительно оценивал подвижнический труд пастырей и архипастырей, отмечая, что при ограниченности просвещенности клирики были усердны в вере «и по отечеству ревнительны»; были просты, но «давали назидательный пример своим благим житием» (Платон (Левшин), 1805: VI). И духовных лиц, не отличавшихся должным благочинием, по мнению историка, было не так много, это не могло служить основанием для умаления заслуг всего сословия. Справедливость научной позиции митрополита Платона подтверждается вплетенностью истории Русской православной церкви, в канву исторических событий российской истории, полной драматических страниц. Однако для их понимания нужны были источники, в то время как летописи и другие исторические памятники, по мнению Е.Е. Голубинского, не позволяли историку писать «настоящие биографии наших митрополитов, равно как и других наших церковно-исторических деятелей» (1900: VIII).
В XIX в. происходит осмысление не только летописного источника, являвшегося в предшествующие эпохи основным для исследователя, но и архивных материалов, представленных синодальной и епархиальной документацией, отложившихся в делопроизводстве духовных консисторий. Тульский краевед дореволюционного периода Н.Е. Северный отмечал особую роль в изучении прошлого Тульской духовной консистории и местного духовенства, «ведшего местные церковные летописи» (1915: 230).
Соответственно, у светских и церковных ученых появилось значительно больше возможностей для понимания деятельности иерархов, замещавших кафедры, располагавшиеся в губернских центрах. Неслучайно отправной точкой не для избирательного освещения трудов отдельных преосвященных, но для масштабного исследования послужило образование епархий в 1799 г., учреждение которых было оформлено актом императора и постановлением Святейшего синода в октябре 1799 г. согласно границам и названиям губерний3. На этом событии акцентируют внимание церковные историки, такие как архиепископ Филарет (Гумилевский), отмечавший определенность и однообразность епархиального управления, проявлявшиеся в «преимущественном внимании» епископов к духовному воспитанию юношества, руководстве монашествующим и женатым духовенством, обязанности как минимум раз в два года обозревать свои владения (1888: 681–683).
В церковно-исторических исследованиях XIX в. предпринимается попытка изучить деятельность наиболее значимых представителей церковной иерархии прошлых столетий в совершенно разных сферах. При этом Е.Е. Голубинский придерживался негативного мнения о трудах православной иерархии эпохи Средневековья, отмечая, что в плане благотворительности и ни-щелюбия «наши епископы периода домонгольского (как и всего последующего времени) не ознаменовали себя в этом отношении совершенно ничем» (1901: 551–552). При этом, по мнению Е.Е. Голубинского, возможности для данной деятельности у Церкви имелись. Среди сонма архиереев он выделял епископа Переяславского Ефрема, тратившего личные и казенные средства на общественную пользу. Отметим, что узкая источниковая база не позволяла в целом восстановить как количество епархий, так и численный состав епископов обозначенного периода, несмотря на намерения создать обобщающий труд (Строев, 1877).
Недостатком данного историографического периода являлась зависимость оценок историков от общего духа синодальной системы. В обобщающих работах того времени нередко подчеркивалось невежество епископов допетровской эпохи, когда некоторые архипастыри, по мнению С.Г. Рун-кевича, «давали повод к замечанию, что “не всяк епископ может чистое слово сложить”» (1900: IV). Историк отмечал недоступность архиереев для простого духовенства, а также их мздоимство, рукоприкладство, физические расправы над провинившимися клириками и мирянами. Свои выводы он строил на базе синодальных архивных материалов, Полного собрания законов Российской империи, учитывая достижения современной ему исторической науки. При этом задачей являлось обоснование исторической прогрессивности петровских реформ в вероисповедной сфере.
Изменение политики в религиозной области при Петре Великом привело к неизбежному укреплению дисциплины внутри епископата, на что и обращает внимание С.Г. Рункевич (1900: 49–50). Среди обязанностей архипастырей выделялись запрет проклинать и отлучать от Церкви по личным побуждениям, необходимость гуманно поступать с противниками православной веры, содержать монашествующих согласно уставу, отказываться от строительства новых церквей в ущерб существующим приходам, не увеличивать церковные причты ради наживы, ежегодно посещать паству, отказываться от участия в мирских делах1. Эти реформы были во многом оправданны, но они же превратили епископат в излишне бюрократизированный элемент синодальной системы, нацеленный на исполнение циркуляров и постановлений Синода.
В другом обобщающем труде – «Очерки по истории Русской церкви» – А.В. Карташев отмечал иную деталь XVIII в.: крайнюю уязвимость епископата от имперской власти, проявлением которой стали репрессии в отношении группы архиереев в правление Анны Иоанновны (1730–1740), так называемые «архиерейские процессы», справедливо именуемые историком методическим государственным террором (2020: 343–344). В исследовании он небезосновательно причисляет к инициаторам расправ над иерархами архиепископа Феофана (Прокоповича), который «напрасно подливал масло в огонь и непоправимо грязнил свою историческую репутацию» (Карташев, 2020: 359), потому что и без его помощи крутился карательный маховик Тайной канцелярии. Обличая государственный произвол в отношении высшей иерархии, А.В. Карташев продемонстрировал неприятие синодального устройства, вплетенного в полицейскую систему абсолютистского государства. Очевидно, что регулярные «чистки» епископата способствовали насаждению атмосферы страха среди высшего и низшего духовенства, боязни лишиться не только сана, но и жизни.
В 1880–90-е гг. появляются исследования, посвященные отдельным иерархам конца XVIII – середины XIX в. Например, профессор Московской духовной академии Иван Николаевич Корсунский (1849–1899), жизнь которого была тесно связана с Тульской епархией, выбрал в качестве основного объекта исторического анализа фигуру митрополита Московского Филарета (Дроздова). Это время историку видится более благодатным и созидательным, чем сложный период становления абсолютизма в первой половине XVIII в., что и отразилось в проповеднической и подвижнической деятельности владыки Филарета.
В представлении И.Н. Корсунского, в николаевское время раскрывается как организаторский талант московского архиерея, так и проповеднический. В проповедях святителя, являющихся уникальным историческим источником, затрагиваются вопросы не только церковной жизни, но и общественной; характеризуются проблемы внутренней и внешней политики (Корсунский, 1894: 216).
В частности, он выделяет несколько событий данного отрезка российской истории, участником которых оказался митрополит Филарет. Среди наиболее значимых деяний отмечается участие высокопреосвященного в борьбе с эпидемией холеры в Москве в 1830–1831 гг. когда рост смертности неизбежно вел к увеличению «сиротства, беспомощности и бедности», что создавало предпосылки для активной благотворительной деятельности Церкви (Корсунский, 1894: 372). К заслугам митрополита И.Н. Корсунский относит пожертвование средств (1 000 р.) на организацию приюта при Троицкой церкви, осуществление окормления мест для заключения преступников.
Не оставляет И.Н. Корсунский без внимания и социальное служение Филарета, продолжавшееся в правление Александра II до самой кончины митрополита в 1867 г. Период Великих реформ, по мнению историка, оказал влияние и на увеличение масштабов церковной благотворительности, что, естественно, находило поддержку со стороны владыки Филарета. Обозревая другие этапы истории Церкви, И.Н. Корсунский стремился проследить благотворительное влияние Филарета и во время царствования императора Александра II, завершившееся с кончиной архипастыря в 1867 г. (Корсунский, 1894: 873).
Достоинством сочинения И.Н. Корсунского является рассмотрение благотворительной деятельности Филарета в контексте общероссийской и церковной истории XIX в., что делает эту работу особенно ценной. Очевиден также вклад историка в историографию социального служения Русской православной церкви, взявшего в качестве исследовательского ориентира личность выдающегося церковного иерарха. Филарет показан как незаурядный архипастырь, ставший нетипичным представителем периода 1830–60 гг.: деятельное служение выделяло его среди других представителей иерархии бюрократизированного времени (Корсунский, 1887: 9). Православие И.Н. Корсунский рассматривает как необходимый фундамент общественно значимой деятельности: обучение человеколюбию и благотворительности проходило у владыки Филарета «на лоне русского православия» (1893в: 10). Обращение к персонализированной истории церковного социального служения неизбежно приводило И.Н. Корсунского к выводу о переплетении имперской и конфессиональной благотворительности.
Личностный фактор в трудах историков московской школы становится ведущим при обращении к истории Русской церкви во второй половине XIX в. Внимание исследователей было обращено на иерархов, деятельность которых отразилась в комплексе источников, в том числе в массиве архивных материалов духовных консисторий. В этом контексте многостороннее служение митрополита Филарета представлялось идеальным объектом для изучения.
Внимание И.Н. Корсунского было направлено и на провинциальных архиереев, таких как архиепископ Тульский Никандр (Покровский) (1816–1893), современником которого он являлся. Поводом для исследования стала кончина владыки (Корсунский, 1893а).
Одним из первых И.Н. Корсунский обратил внимание на совпадение эпохи тульского архипастыря, названной «лучшими страницами в истории Тульской епархии» (1893а: 313), с реформаторским правлением Александра II. Историк делал акцент на социальном служении Никандра, жившего больше сердцем, чем умом. И.Н. Корсунский отмечал, что, несмотря не скромные финансовые возможности, преосвященный Никандр активно жертвовал на благотворительность и пособия людям науки и был всегда первым в списке благотворителей, «с более или менее значительною суммою пожертвования, в списках пожертвований на какое бы то ни было местное или иногороднее, частное или общерусское благое дело или предприятие» (1893б: 26–27). Среди объектов внимания архипастыря оказались общество милосердия для призрения бедных, общество вспомоществования бедным ученикам Тульской гимназии. Никандр отметился и живейшим участием в преодолении последствий неурожая и голода 1891 г. в Тульской губернии.
Внимание к разным аспектам архипастырской деятельности в XIX в. стало важной частью формировавшейся на рубеже XIX–XX вв. церковной историографии, вклад в развитие которой вносили не только столичные историки, но и провинциальные (Введенский, 1904). В настоящей статье целесообразно отметить участие тульских историков Церкви в исследовании деятельности архиереев, стоявших в разные периоды во главе епархии. Наибольший интерес авторов, главным образом преподававших в Тульской духовной семинарии, вызывала личность преосвященного Мефодия, первого епископа Тульского.
Так, в 1862 г. профессор Тульской духовной семинарии И. Голунский составил объемное исследование, посвященное владыке Мефодию, и опубликовал его на страницах Тульских епархиальных ведомостей1. Он отмечал, что «внутреннее управление епархией оставило особую память о преосвященном Мефодии. С высоким взглядом на звание пастыря он соединял неутомимую деятельность по всем отраслям сего звания, начиная от священнодействия и проповедования слова
Божия до разбирательства словесных жалоб самых последних из своих подчиненных. Своей деятельностью он особенно подвинул не отличавшийся скоростью ход дела в духовных правлениях епархии» (Голунский, 1862а: 68). В частности, преосвященный Мефодий организовал активное строительство архиерейского дома, укрепил дисциплину среди духовенства. Среди его достоинств И. Голунский называет простоту в общении, сочетаемую с деловитостью и отказом от ненужного светского общения. Историк останавливает внимание и на щедрости архипастыря: «В отношении к домашнему содержанию преосвященный любил простоту, чуждался роскоши и большую часть своих денег употреблял на раздаяние бедным и своим близким» (Голунский, 1862а: 71).
Опираясь на разнообразные источники, главным образом документы Святейшего синода и Тульской духовной консистории, а также тексты проповедей, И. Голунский создает описание не совсем типичного епархиального архиерея, обращая внимание на его приверженность идеям социального служения и научным изысканиям. В частности, будучи на тульской кафедре, преосвященный Мефодий начал на собственные средства собирать библиотеку, оцененную современниками в 15 тыс. р. и переданную затем в Московскую духовную академию. Неменьшее значение имели проповеди иерарха, носившие отпечаток как «глубокого ума, обширной учености, а особенно отчетливого звания Отцов Церкви, так и особенностей личного характера его» (Голунский, 1862б: 296).
Перевод владыки из Тулы в Тверь с назначением членом Святейшего синода И. Голунский оценивал как значительную утрату для епархии: «Тула, радостно встретившая своего первого архипастыря, не имела удовольствия слышать его прощальное слово» (1862а: 73).
Личность преосвященного Мефодия вызывала интерес и у других провинциальных историков. Так, преподаватель Тульской духовной семинарии П.И. Малицкий, отмечая положительное воздействие епархиальной реформы, связывал ее с фигурой первого епархиального архиерея – епископа Мефодия (Смирнова), пребывавшего в Туле с 1799 по 1803 г. К его заслугам автор относил организацию кафедры, способствовавшей преобразованию ничем не примечательного города в духовный и культурный центр (Малицкий, 1903).
С личностью архипастыря историк связывал подъем религиозного духа среди духовенства и паствы: священникам было вменено в обязанность учить паству жизни по вере; созданы Духовная консистория и семинария, в которых была велика потребность в людях не только духовных, но и светских. В работах П.И. Малицкого делаются попытки выйти на уровень общероссийских обобщений: «Православные епископы всегда были носителями истинного христианского учения, проводниками просветительных идей в духе христианства в среду народа. Применение распоряжений центрального духовного правительства по части религиозного образования народа всею своею тяжестью ложилось на епископов» (1899: 31). Однако преодолеть описательность не позволила приверженность к провиденциализму.
По мнению другого тульского исследователя, Н.И. Троицкого, преосвященный Мефодий являлся носителем разумного начала в церковной жизни, сумевшим укрепить авторитет Церкви на Тульской земле (1899: 5).
Таким образом, в провинциальной церковной историографии начало системной епархиальной жизни отождествлялось с деятельностью первого епархиального архиерея – преосвященного Мефодия (Смирнова), труды которого способствовали укреплению духовной жизни в крае, развитию социального служения. На этой особенности делают акцент как И. Голунский, так и П.И. Малицкий.
Среди других исторических персонажей внимание исследователей привлекают иерархи, возглавившие епархию в трудные для страны времена. Одним из таких архипастырей стал епископ Тульский и Белевский Амвросий (Протасов), занимавший кафедру в период 1804–1816 гг. Правление владыки оказалось непростым, совпавшим с Отечественной войной 1812 г. Его патриотическое служение (в этот год им же была организована в Туле Комиссия для вспоможения вышедшим из занятых неприятелем мест людям1) не осталось незамеченным историками. Так, И. Голунский писал: «Большая часть лучших проповедей его, дошедших до нас, сказаны им в Туле; здесь же застали его события 1812, 13 и 14 годов и, как следовало ожидать, вызвали несколько прекрасных слов его, то ободрявших унылый дух граждан и возбуждавших любовь к отечеству в эпоху бедствий России, то наполненных радости и благодарения оных. Ни один выход полков Тульского ополчения, ни возвращение их не остались без назидательного и приветственного слова Амвросия» (1863: 731).
Кроме того, преосвященный Амвросий прилагал усилия для сохранения исторической памяти о победе русского народа, разместив в кафедральном Успенском соборе, находившемся на территории кремля, освященные им же знамена тульского ополчения, переданные архипастырю на хранение в соборе после завершения войны командирами полков (С.П. Бобрищевым-Пушкиным в 1813 г. и А.Ф. Щербатовым в 1814 г.). Преподаватель Тульской духовной семинарии М. Руднев оставил описание реликвий: «Изорванные на войне, а частию обветшавшие от времени, сии знамена промыты искусным иконописцем, подклеены, подновлены без существенной перемены и утверждены в 1865 году на приличных тумбах с надписями для сохранения в отдаленное потомство, как памятник достоподражаемого патриотизма, оказанного в отечественную войну нашим дворянством, а за ним и другими сословиями Тульской губернии» (1866: 436).
Можно сделать вывод, что в XIX – начале XX в. в церковной историографии складывается отдельное самостоятельное направление, связанное с осмыслением роли епархиальных архиереев в жизни не только Русской православной церкви, но и государства и общества. Оно представлено комплексом работ столичных и провинциальных историков, вводивших в оборот новые источники и дополнявших церковные летописи синодальной и консисторской документацией. Подобная благодатная источниковая база позволяла создавать насыщенные фактами работы, выходившие в виде отдельных изданий либо появлявшиеся на страницах церковной периодической печати. Данные сочинения имели несколько особенностей. Во-первых, переломным моментом провинциальной церковной жизни все исследователи считают епархиальную реформу конца XVIII в., позволившую говорить о совершенствовании синодальной системы управления, приведшей к упорядочению деятельности церковной иерархии. Во-вторых, все историки делают акцент на разных аспектах социального служения архипастырей, активном соработничестве с государственными институтами. Представляется, что значительное историографическое наследие, посвященное епархиальным преосвященным, в дальнейшем станет предметом отдельного монографического исследования.
Список литературы Епархиальные архиереи в отечественной историографии XIX – начала XX в.
- Введенский С.Н. Святитель Митрофан Воронежский как церковно-государственный деятель эпохи преобразований (опыт исторической характеристики) // Воронежская старина. 1904. Вып. 4. С. 69–98.
- Голубинский Е.Е. История Русской церкви : в 2 т. Т. I. Период первый, киевский или домонгольский. Первая половина тома : изд. 2-е, испр. и доп. М., 1901. 966 с.
- Голубинский Е.Е. История Русской церкви : в 2 т. Т. II. Период второй, московский. Первая половина тома. М., 1900. 919 с.
- Голунский И. Преосвященный Амвросий, второй епископ Тульский и Белевский // Тульские епархиальные ведомости. 1863. № 12. С. 726–735.
- Голунский И. Преосвященный Мефодий, епископ Тульский и Белевский (продолжение) // Тульские епархиальные ведомости. 1862а. Т. 2, № 14. С. 62–74.
- Голунский И. Преосвященный Мефодий, епископ Тульский и Белевский (окончание) // Тульские епархиальные ведо-мости. 1862б. Т. 2, № 18. С. 291–299.
- Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви : монография : в 2 т. М.; Берлин, 2020. Т. 2. 496 с.
- Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций / послесловие, коммент. А.Ф. Смирнова. М., 2004. 831 с
- Корсунский И.Н. Святитель Филарет, митрополит Московский: его жизнь и деятельность на Московской кафедре по его проповедям, в связи с событиями и обстоятельствами того времени (1821–1867 гг.). Харьков, 1894. 1083 с.
- Корсунский И.Н. Высокопреосвященный Никандр (Покровский), архиепископ Тульский (27 июня) // Богословский вестник. 1893а. Т. 3, № 8. С. 309–314.
- Корсунский И.Н. Высокопреосвященный Никандр, архиепископ Тульский : некролог. М., 1893б. 31 с.
- Корсунский И.Н. Русская благотворительность: Филарет, митрополит московский и Ф.П. Гааз. М., 1893в. 39 с.
- Корсунский И.Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского в холеру 1830–1831 гг. М., 1887. 118 с.
- Малицкий П.И. Меры преосвященного Мефодия, первого Тульского епископа, к подъему благочиния среди духовен-ства // Тульская старина. 1903. № 13. С. 18–26.
- Малицкий П.И. Открытие Тульской епархии. Историческая записка // Тульская старина. 1899. № 5. С. 22–33.
- Платон (Левшин П.Г.), митр. Московский. Краткая церковная российская история. М., 1805. 405 c.
- Руднев М.Д., прот. Тульский Успенский кафедральный собор // Тульские епархиальные ведомости. 1866. № 11. С. 432–437.
- Рункевич С.Г. История Русской церкви под управлением Святейшего синода. Т. I. Учреждение и первоначальное устройство Святейшего правительственного синода (1721–1725 гг.). СПб., 1900. 435 с.
- Северный Н.Е. Мои занятия по историческому изучению Тульского края как материал для решения вопроса о задачах научной деятельности Тульской ученой архивной комиссии, в связи с развитием Тульской историографии, главным образом в XIX столетии // Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. Кн. I. 1913 г. – 10 ноября 1914 г. Тула, 1915. С. 295–337.
- Солнцев Н.И. К вопросу о периодизации истории русской исторической науки // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 5. С. 40–46.
- Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877. 1055 с.
- Троицкий Н.И. Сто лет бытия Тульской епархии. Исторический взгляд на епархиальную жизнь с 1799 по 1899 г. // Тульская старина. 1899. № 6. С. 1–27.
- Филарет (Гумилевский Д.Г.), архиеп. История Русской церкви : изд. 5-е. М., 1888. 840 с.
- Фирсов С.Л. Владыка Питирим (Окнов): к истории назначения на Петроградскую митрополичью кафедру // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История РПЦ. 2010. № 2 (35). С. 22–31.