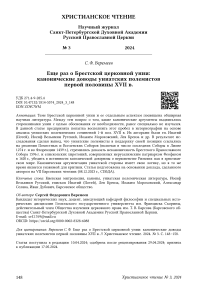Еще раз о Брестской церковной унии: канонические доводы униатских полемистов первой половины ХVII в.
Автор: Веремеев С.Ф.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право. Материалы VII Барсовских чтений
Статья в выпуске: 3 (110), 2024 года.
Бесплатный доступ
Теме Брестской церковной унии и ее отдельным аспектам посвящена обширная научная литература. Между тем вопрос о том, какие канонические аргументы выдвигались сторонниками унии с целью обоснования ее необходимости, ранее специально не изучался. В данной статье предпринята попытка восполнить этот пробел в историографии на основе анализа униатских полемических сочинений 1-й пол. ХVII в. Их авторами были еп. Ипатий (Потей), Иосиф Вельямин Рутский, Иоаким Мороховский, Лев Кревза и др. В результате исследования сделан вывод, что униатские полемисты в поддержку своей позиции ссылались на решения Поместных и Вселенских Соборов (включая в число последних Соборы в Лионе 1274 г. и во Флоренции 1439 г.), стремились доказать неканоничность Брестского Православного Собора 1596 г. и епископских хиротоний, совершенных иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г., убедить в истинности католической доктрины о верховенстве Римских пап в христианском мире. Каноническая аргументация униатской стороны имеет свою логику, но в то же время является уязвимой для критики. Статья подготовлена на основании доклада, сделанного автором на VII Барсовских чтениях (08.12.2023 г., СПбДА).
Киевская митрополия, каноны, униатская полемическая литература, иосиф вельямин рутский, епископ ипатий (потей), лев кревза, иоаким мороховский, александр селява, иван дубович, барсовское общество
Короткий адрес: https://sciup.org/140307717
IDR: 140307717 | УДК: 271.4-9-285.4 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_3_148
Текст научной статьи Еще раз о Брестской церковной унии: канонические доводы униатских полемистов первой половины ХVII в.
17.05.2024.
Уния Киевской митрополии с Римом, заключенная в декабре 1595 г. и утвержденная в следующем 1596 г. в Бресте, привела к переходу Восточной Церкви на территории Речи Посполитой из-под власти Константинопольского патриарха в юрисдикцию Римского престола. Теме Брестской церковной унии и ее отдельных аспектов посвящена обширная литература, которая уже сама стала предметом историографического анализа. Однако, несмотря на многообразие научных исследований в этой сфере, все еще существуют определенные лакуны, нуждающиеся в дальнейшем изучении. К числу таковых, на наш взгляд, относится вопрос о том, какие канонические аргументы выдвигались сторонниками унии с Римом с целью обоснования ее необходимости. Найти ответ на данный вопрос позволяет обращение к полемическим сочинениям униатских авторов, появившимся в большом количестве в 1-й трети XVII в. Некоторые из униатских полемистов сами принимали активное участие в заключении унии (Ипатий (Потей)), другие же способствовали ее сохранению и внесли весомый вклад в ее дальнейшее развитие на белорусско-украинских землях (Иосиф Вельямин Рутский) (см. подр.: [Веремеев, 2023]). Дискутируя с противниками унии, ее приверженцы выдвигали свои доводы, в том числе и канонического характера.
К изучению униатской и православной полемической литературы в прошлом уже обращались известные ученые, к примеру академик Е. Карский [Карскiй, 1921, 152–209]. В советский период этим сюжетом занимался Г. Я. Голенченко [Голенченко, 1989]. В современной историографии отметим публикации российского историка О. Б. Неменского [Неменский, 2006; Неменский, 2010]. Также из числа современных работ обстоятельностью и глубиной отличается монография Р. Ф. Ткачука [Ткачук, 2019]. Однако канонические аргументы, выдвигаемые униатами в пользу объединения с Римской Церковью и содержащиеся в полемических трудах, ранее специально не исследовались.
Большое значение канонов в церковной жизни признавалось самими представителями униатской стороны. Так, киевский униатский митрополит Иосиф Вельямин Рутский видел в соблюдении церковных канонов барьер на пути распространения ересей. Постановления Вселенских Соборов он вовсе называл «Божьими постановлениями» (Rutski, 1914, 570), подчеркивая тем самым их высокий статус.
Канонические аргументы выдвигались униатскими авторами в качестве одного из доказательств правомочности и необходимости унии Киевской митрополии с Римской Церковью. Одним из таковых аргументов являлись для них решения Флорентийского Собора 1439 г., участие в котором принимали представители как Западной, так и Восточной Церквей. Униаты считали Флорентийский Собор Вселенским (Kreuza, 1617, 49-53; Rutski, 1621, 87; Morochowski, 1622б, 106). По мнению И. Вельямина Рут-ского, отказ греков от Флорентийского Собора в 1472 г. де-факто привел к выходу Киевской митрополии из юрисдикции Константинополя. Константинопольские патриархи, с его точки зрения, утратили легитимность после того, как греки отказались от претворения в жизнь Флорентийской унии, принятой на Вселенском Соборе (Рутский в данном случае подразумевал Флорентийский), в то время как 1-е правило III Вселенского Собора в Эфесе (431)1 предписывало лишать сана епископов, отступивших от «святого Вселенского Собора» (Rutski, 1621, 45–46).
Владимирский униатский епископ Иоаким Мороховский стремился доказать, что Собор во Флоренции имел статус Вселенского Собора. Он писал, что таковым его признавали сами иерархи Восточной Церкви. Уния 1439 г. не состоялась, на его взгляд, из-за сопротивления византийского духовенства и мирян и недостаточной решительности императора Иоанна VIII Палеолога (Morochowski, 1622б, 109–110). В другом своем полемическом труде И. Мороховский связывал падение Византии с отступлением греков не только от флорентийских решений, но и от решений Лионского Собора 1274 г. (Morochowski, 1622а, 30), который униаты, вслед за Латинской Церковью, также относили к числу Вселенских.
Униатские полемисты считали унию Киевской митрополии с Римом 1595– 1596 гг. продолжением Флорентийской унии. Об этом, в частности, писал Л. Кревза, по мнению которого Брестский Собор 1596 г. включил Киевскую митрополию в унию, заключенную христианским Востоком и Западом во Флоренции, а не провозглашал что-то принципиально новое. При этом Л. Кревза ссылался на 6-е правило Эфесского Собора2, обязывавшее духовенство и мирян выполнять решения Вселенских Соборов (Kreuza, 1617, 49). Отсюда следовал вывод о необходимости признания объединения с Римской Церковью. Как и И. Мороховский, Л. Кревза в падении Константинополя под ударами турок-османов видел кару Божию за отступление от Флорентийской унии (Kreuza, 1617, 53).
На страницах полемических сочинений униатских авторов большое внимание было уделено опровержению каноничности антиуниатского Брестского Православ-ного3 Собора, осудившего унию и предавшего анафеме ее сторонников. С целью обоснования его неканоничности униатской стороной был выдвинут ряд аргументов. Так, еп. Ипатий (Потей) писал о том, что среди участников вышеназванного Собора было много протестантов, а один из двух маршалков, возглавлявших его, принадлежал к числу светских лиц и вовсе являлся атеистом (« ничого не верил и по эпикурску живот свой провадил », (Антиризис, 1903, 529, 531)). Епископ Ипатий (Потей), равно как и другие униатские полемисты, отрицал полномочия протосинкелла Константинопольского патриарха Никифора (Парасхес-Кантакузина), председательствовавшего на антиуниатском Соборе в Бресте, назвав этого человека « выволанцем и выклятым », « зрадцей и шкодником хрестиянским » (Антиризис, 1903, 535, 877). Он также отмечал в своем труде, что патр. Иеремия (Транос) к тому времени уже умер (†1595), поэтому непонятно, от кого не являвшийся епископом Никифор получил полномочия судить архиереев Киевской митрополии (Антиризис, 1903, 541, 543).
Осуждение на Брестском Православном Соборе епископов — сторонников унии называлось в униатской полемической литературе незаконным. По мнению еп. Ипатия (Потея), в действительности это был не суд над епископами, а несправедливое судилище: архиереи не получили вызова на суд (даже в приватной форме) и фактически были осуждены заочно. Он ссылался при этом на 12-е правило II Карфагенского Собора4, по которому епископа могли судить 12 епископов, и указывал на несоответствие сему в Бресте: митр. Михаила (Рагозу) и пятерых епископов Киевской митрополии судили два епископа (Михаил (Копыстенский) и Гедеон (Балабан)) (Антиризис, 1903, 545, 547). Также еп. Ипатий (Потей) упоминал 30-е правило IV Карфагенского Собора, запрещавшее заочные суды над духовными лицами (Антиризис, 1903, 547). Канонические доводы он подкреплял также примерами из истории: в V в. Вселенский
Собор в Халкидоне осудил патриарха Александрии Диоскора за то, что тот ранее отлучил от Церкви папу Римского Льва Великого (Антиризис, 1903, 563).
Аргументом в пользу того, что антиуниатский Брестский Собор был неканоничным, для еп. Ипатия являлось место его проведения — дом некоего Райского, одного из протестантов Бреста. Епископ Ипатий апеллировал к 6-му канону Гангрского Собора (IV в.)5, который запрещает проведение церковных Соборов вне храмов (Анти-ризис, 1903, 877), а также писал, что в истории христианства не было примеров, чтобы Вселенские и Поместные Соборы проходили в частных домах или «еретических божницах». Собрание противников унии в доме протестанта противоречило, на его взгляд, правилам и обычаям Восточной Церкви (Антиризис, 1903, 877, 879).
В своем полемическом сочинении еп. Ипатий (Потей) также приводил ряд церковных норм (45-е и 65-е Апостольские правила6, 33-е правило Лаодикийского Собора7), запрещавших совместные молитвы с еретиками и раскольниками. Очевидно, что под еретиками он понимал протестантов. Тот факт, что противники унии не явились на Собор в Бресте с участием митр. Михаила (Рагозы), а заседали отдельно, по мнению еп. Ипатия, противоречил 35-му правилу Лаодикийского Собора8 (Ан-тиризис, 1903, 531).
Сторонники унии в обоснование своей позиции тоже ссылались на 28-й канон Халкидонского Собора9, предлагая при этом свою интерпретацию его содержания. По мнению И. Вельямина Рутского, отождествление «варваров», упоминаемых в 28-м каноне, с Русью является ошибочным. Под термином «варвары», на его взгляд, подразумевались все народы, находившиеся тогда вне ойкумены Византии, например германцы, венгры и т. д. Халкидонский Собор не передавал эти народы в юрисдикцию патриарху Константинополя. Следовательно, делал вывод И. Рутский, 28-й канон не является доказательством распространения юрисдикции Константинополя и на земли
Руси. Еще один его аргумент таков: Халкидонский Собор состоялся в 451 г. — в период, когда на Руси церковных структур не было, поэтому положения 28-го канона на территорию Киевской митрополии не распространялись (Rutski, 1621, 41–42). А. Селява в несколько ироническом ключе писал о том, что противники унии, апеллируя к халки-донским постановлениям с целью обоснования принадлежности Киевской митрополии к Константинопольской Церкви, игнорируют при этом тот факт, что в них шла речь также о верховенстве Рима над Константинополем (Sielawa, 1622, 30).
Важное место в сочинениях униатских полемистов занимало обоснование тезиса о неканоничности рукоположений, совершенных иерусалимским патриархом Феофаном в Киеве в 1620 г., в результате чего у противников унии на территории белорусско-украинских земель появилась своя иерархия во главе с митрополитом. И. Вельямин Рутский в своем сочинении «Sowita wina» стремился доказать, что хиротонии 1620 г. противоречили церковным канонам и государственному праву, в частности, они шли вразрез с нормами статутов Великого княжества Литовского. Рутский подчеркивал, что новая иерархия появилась при живых епископах, занимавших свои кафедры, и вопреки воле короля (Rutski, 1621, 1–6). Помимо того, он обращал внимание на то, что иерусалимский патриарх не обладает правом поставления иерархии для Киевской митрополии (Rutski, 1621, 85). Рутский писал, что хиротонии 1620 г. состоялись с участием казаков, между тем как 30-е Апостольское правило предписывает лишать сана тех епископов, которые получили свой сан с помощью светских лиц10 (Rutski, 1914, 570).
О том, что патр. Феофан рукоположил епископов на кафедры, которые не являлись на тот момент вакантными, что противоречило канонам, писал также Тимофей Симонович. Он сравнивал рукоположение Иова (Борецкого) в киевские митрополиты в 1620 г. с возведением Фотия на Константинопольскую патриаршую кафедру в 858 г., что было осуждено впоследствии на Константинопольском Соборе 869–870 гг. Схожесть в обоих случаях Т. Симонович видел в том, что и Фотий, и Иов (Борецкий) были избраны на кафедры при жизни действующих архиереев, находящихся в общении с Римом (Symanowicz, 1621, 17).
Киевский митрополит Михаил (Рагоза), принявший унию, был объявлен низложенным и предан анафеме, в том числе и александрийским патриархом Мелетием (Пигасом). Униатские полемисты оспаривали каноничность этого решения. Так, И. Ве-льямин Рутский отмечал, что главным судьей для митрополита и епископов является папа Римский, именно он имеет право отстранять владык от кафедр, а никак не патриарх Александрии. В представлении И. Вельямина Рутского действия патр. Мелетия (Пигаса) не имели канонической силы, а митр. Михаил (Рагоза) и епископы с точки зрения церковного права по-прежнему сохраняли за собой кафедры. В качестве аргумента в пользу того, что римский понтифик является верховным судьей для иерархов, И. Вельямин Рутский упоминал пример свт. Афанасия Александрийского, который искал справедливости в Риме, а также папы Льва I, который восстановил на кафедре патриарха Константинопольского Флавиана, осужденного до этого на «разбойничьем» Соборе в Эфесе патр. Диоскором. По мнению И. Вельямина Рутского, в случае, когда у обвиняемого нет права апелляции, суд над ним не является справедливым. Подобное, на его взгляд, произошло в случае с митр. Михаилом (Рагозой), которого патр. Мелетий (Пигас) отстранил от митрополии и анафематствовал, не дав возможности прежде обратиться с апелляцией к папе Римскому (Rutski, 1621, 51).
Т. Симонович в своем сочинении отмечал, что низложение униатских епископов Киевской митрополии Константинополем произошло без церковного суда, где обвиняемые могли бы выступить со своими разъяснениями. Униатский полемист ссылался при этом на 4-е правило Сардикийского Собора 344 г.11, согласно которому епископы, лишенные сана, имели право подавать апелляцию папе Римскому, и до решения последнего поставление новых епископов на соответствующие кафедры запрещалось. С точки зрения Т. Симоновича, подобной процедуры не было в ситуации 1620 г. Отсюда он делал вывод о неканоничности отстранения униатских владык от их кафедр (Symanowicz, 1621, 21–22).
Объектом для критики униатских полемистов являлся и сам иерусалимский патриарх Феофан. Так, Т. Симанович обвинял его в симонии, утверждая, что якобы тот за подарки утвердил учреждение патриархата с центром в Москве (Symanowicz, 1621, 12).
В униатской полемической литературе можно заметить отсылки не только к церковным канонам, но и к трудам греческих канонистов. Так, И. Мороховский, оспаривая тезис Мелетия (Смотрицкого) (времен его антиуниатского периода) о том, что Восточная Церковь осудила учение Латинской Церкви наравне с учениями Ария, Нестория или Евтихия, апеллировал при этом, в числе прочего, к трудам византийского ученого и канониста Дмитрия II Хоматиана (Morochowski, 1622б, 105). И. Мороховский ссылался на Феодора Вальсамона, стремясь доказать подлинность т.н. Константинова дара12 (Morochowski, 1622б, 206).
В полемике со своими оппонентами униатские полемисты могли ссылаться и на решения Тридентского Собора 1545–1563 гг., который считается в Римско-Католической Церкви Вселенским. Так, И. Мороховский в ответ на обвинение со стороны Мелетия (Смотрицкого), тогда еще противника унии, в том, что униаты отступили от святоотеческого толкования Библии, приводил в пример одно из решений Тридентского Собора, которое обязывало духовенство и верующих придерживаться толкования Священного Писания в духе святых отцов (Morochowski, 1622б, 215). Ссылался И. Мороховский на решения Тридентского Собора также в полемике с Мелети-ем (Смотрицким) относительно таинства брака. В ответ на тезис Мелетия (Смотриц-кого), что Западная Церковь считает брак нечистым И. Мороховский цитировал одно из постановлений Тридентского Собора, в котором брак назван «великим», «святым» и «чистым» (Morochowski, 1622б, 219).
Униатские полемисты обвиняли своих оппонентов из православного лагеря в неправильных трактовках церковных канонов. Так, И. Вельямин Рутский критиковал Мелетия (Смотрицкого) за неправильное, на его взгляд, изложение сути 6-го канона I Вселенского Собора 325 г.13, который запрещает поставление епископа без согласия митрополита. Униатский полемист рассуждал так: Мелетий (Смотрицкий) был рукоположен патр. Феофаном на Полоцкую кафедру вопреки воле киевского митрополита, т. е. самого И. Вельямина Рутского, следовательно, это входит в противоречие с 6-м правилом I Вселенского Собора. И. Вельямин Рутский также обвинял Мелетия (Смотрицкого) в искажении содержания 8-го правила III Вселенского Собора14 (Rutski, 1621,
44-46)15. И. Мороховский утверждал, что Мелетий (Смотрицкий) еще и ошибается в номерах церковных канонов (Morochowski, 1622б, 207). Возможно, действительная причина заключалась в том, что униатский полемист и его православный оппонент пользовались разными изданиями сборников канонов, в которых номера последних не совпадали.
Уния Киевской митрополии с Римом подразумевала признание православными русинами учения о верховенстве Римских пап в христианском мире. Униатские авторы отстаивали истинность этой доктрины в своих сочинениях. Как уже ранее упоминалось, одним из доказательств правильности учения о папском примате для И. Мороховского служил т. н. Константинов дар («Donatio Constantini») (Morochowski, 1622б, 83). Однако, ссылаясь на него, И. Мороховский делал при этом важную оговорку: по его мнению, авторитет римских понтификов основывается не на «Donatio Constantini», а на том, что сам Христос возложил на ап. Петра особое служение, которое, в свою очередь, перешло к его преемникам — Римским папам (Morochowski, 1622б, 205). На «Donatio Constantini» в подтверждение власти римских понтификов ссылался также униатский полемист монах-василианин Иван Дубович (Dubowicz, 1644, 46). Отметим, что к тому времени подлинность «Donatio Constantini» уже была поставлена под сомнение. О том, что это фальсификат, столетием раньше писали некоторые европейские интеллектуалы, например Лоренцо Валла (Валла,
-
1963) . Однако, возможно, И. Мороховский и И. Дубович не знали этого, либо же, зная, не соглашались, будучи уверенными в подлинности «Donatio Constantini».
И. Мороховский отмечал, что примат римских понтификов был подтвержден на I и IV Вселенских Соборах (Morochowski, 1622а, 4–8). Он ссылался в качестве довода на постановления IV Вселенского Собора в Халкидоне, где подчеркивалась роль папы Льва I (Morochowski, 1622б, 70-71, 78). О папском примате свидетельствовал, по мнению И. Мороховского, IV Латеранский Собор (1215), который в Римско-Католической Церкви считается XII Вселенским (Morochowski, 1622б, 206-209). И. Ду-бович считал, что доказательством истинности учения о верховенстве Римских пап служит протокол 18-го заседания VI Вселенского Собора (Dubowicz, 1644, 45).
Хотя условия Брестской унии предполагали трактовку учения об исхождении Святого Духа по формуле Флорентийского Собора 1439 г. («от Отца через Сына»), некоторые униатские полемисты выступали в защиту католического догмата Filioque («и от Сына»). При этом, помимо богословских и иных аргументов, они обращались к истории Вселенских Соборов первого тысячелетия, которая, на их взгляд, могла служить доказательством того, что Filioque как минимум имеет право на существование. Так, И. Мороховский указывал на то обстоятельство, что учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына существовало в Римско-Католической Церкви уже во времена II Вселенского Собора (381), а осуждать его в христианском мире стали после VII Вселенского Собора (787) (Morochowski, 1622а, 6).
Заключение
Таким образом, анализ содержания униатских полемических сочинений позволяет сделать следующие выводы. Необходимость и легитимность заключения унии с Римской Церковью обосновывалась ее сторонниками ссылками на решения Вселенских и ряда Поместных Соборов. При этом к числу Вселенских Соборов относились Собор в Лионе 1274 г., и в особенности Флорентийский Собор 1439 г. Организация, проведение и решения Брестского Православного Собора 1596 г., осудившего унию и предавшего анафеме ее приверженцев, трактовались как противоречащие церковным правилам и, соответственно, не имеющие канонической силы. Значительное внимание на страницах полемических сочинений уделялось также обоснованию не-каноничности епископских хиротоний, совершенных иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 г. для той части духовенства и паствы Киевской митрополии, которая не приняла Брестскую унию. Канонические аргументы выдвигались также для обоснования истинности католической доктрины о верховенстве Римских пап. Униатские полемисты упрекали своих оппонентов в незнании канонов, хотя в действительности, как представляется, имело место различное толкование зачастую одних и тех же канонических норм, либо оппоненты пользовались разными изданиями сборников канонов, в которых номера последних не совпадали.
Аргументация униатской стороны выглядит довольно логичной, хотя отнюдь не бесспорной. Например, если исходить из того, что Флорентийский Собор 1439 г. не является Вселенским (точка зрения Православной Церкви), то в таком случае отпадают все соответствующие доводы униатов, апеллирующих к его решениям в подтверждение легитимности Брестской церковной унии. Еще один пример: для И. Ве-льямина Рутского епископская хиротония Мелетия (Смотрицкого), совершенная без согласия действующего митрополита, противоречила 6-му правилу I Вселенского Собора. Но православные не считали униатского митрополита главой своей Церкви и, соответственно, его согласие на кандидатуру Мелетия (Смотрицкого) не было нужным в их представлении. Обоснование каноничности епископских хиротоний патр. Феофана 1620 г., которое предложил Мелетий (Смотрицкий) в своем труде «Verificatia niewinności» (Smotryckiy, 1887), обладает также логической стройностью и определенной убедительностью, как, впрочем, и обоснование униатами своей позиции. К сожалению, рамки настоящей статьи не позволяют подробно рассмотреть контраргументы канонического характера, выдвигаемые православными авторами в их полемике с униатами в 1-й пол. ХVII в., изучению этого вопроса следует посвятить отдельную публикацию.
Хотелось бы обратить внимание на следующее. Представляется, что апелляция униатской и православной сторон к канонам в ходе полемики вокруг Брестской церковной унии вполне убедительно доказывает, что сами каноны не являются неким трансцендентным явлением (см.: [Оспенников, 2023, 184]) и в конкретно-исторических обстоятельствах обладают достаточной гибкостью (см. об этом: [Гайденко, Оспенни-ков, 2020]), могут различным образом интерпретироваться. О таковой особенности канонического права неоднократно шла речь на заседаниях Общества изучения церковного права им. Т. В. Барсова (Барсовского общества) [VI Барсовские чтения и круглый стол, 2022; Задорнов и др., 2024], и в публикациях его членов и участников организуемых им научных мероприятий [Почекаев, 2019, 102]. Рассмотренный нами исторический сюжет является еще одним тому подтверждением.
Список литературы Еще раз о Брестской церковной унии: канонические доводы униатских полемистов первой половины ХVII в.
- Антиризис (1903) — Антиризис или Апология против Христофора Филалета // Русская историческая библиотека. Т. XIX: Памятники полемической литературы в Западной Руси. Кн. 3. СПб., 1903.
- Валла (1963). — Валла Л. Рассуждения о подложности так называемой дарственной грамоты Константина / Пер. И. А. Перельмутера // Итальянские гуманисты XV в. о церкви и религии. М.: АН СССР, 1963. С. 140-178.
- Канонические правила — Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. URL: https://orthodoxbible.ru/canons.php?id=11&canon=6 (дата обращения: 27.06.2024).
- Правила — Правила Святых Апостолов и Вселенских соборов с толкованиями. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-svjatyh-apostolov-i-vselenskih-soborov-s-tolkovanijami/ (дата обращения: 27.06.2024).
- Dubowicz (1644) — Dubowicz I. Hierarchia abo o zwierzchnosci w Cerkwi Bozey. Lwow: W Drukarni Colleg: Societatis Iesu, 1644.
- Kreuza (1617) — Kreuza L. Obrona iednosci cerkiewney abo Dowody, ktorymi siç pokazuie, iz grecka cerkiew z lacinsk^ ma byc ziednoczona. Wilno: W drukarni Leona Mamonicza, 1617.
- Morochowski (1622а). — Morochowski H. Discurs o pocz^tku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kosciola Rzymskiego, y kto byl tego przyczyn^. Zamosc, 1622.
- Morochowski (1622б) — Morochowski H.J. ПАРНГОР1А albo Utulenie uszczypliwego Lamentu mniemanej Cerkwie Swiçtçj wschodniej zmyslonego Theophila Orthologa. Wilno, 1622.
- Rutski (1621) — Rutski W. Sowita wina to iest odpis na script, Maiestat Krola Iego Msci honor y reputati^ Ludzi Zacnych Duchownych y Swieckich obrazai^cy, nazwany «Verizcatia Niewinnosci», wydany od Zgromadzenia Nowey Cerkwie nazwaney S. Ducha. Wilno, 1621.
- Rutski (1914) — Rutski W. Examen Obrony, to jest odpis na script Obrona Verificatij nazwany, w ktуrym siç zgromadzenie Wilenskie Zejscia Ducha iustificuie, ze nie popadlo w Sowit^ Winç, sobie zadan^. Wydany od zakonnikow monastera Wilenskiego S. Troycy // Архив Юго-Западной России, издаваемый коммиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев, 1914. Т. VIII. Ч.1. С. 562-596.
- Sielawa (1622) — Sielawa A. Antelenchus to iest odpis na scrypt uszczypliwy Zakonnikow Cerkwie odstçpney S. Ducha Elenchus nazwany. Wilno, 1622.
- Smotryckiy (1887) — Smotryckiy M. Verificatia niewinnosci: Y omylnych po wszytkiey Litwie y Bialey Rusi rozsianych, zywot y uczciwe cnego Narodu Ruskiego o upad przyprawic zrz^dzonych nowin, pod milosciw^ Pansk^ y Oycowsk^ nawyzszey y pierwszey po Panu Bogu narodu tego zacnego zwierzchnosci, y brzegu wszelkiey sprawiedliwosci obronç, poddane chrzescianskie uprz^tnienie // Архив Юго-Западной России, издаваемый коммиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киевъ, 1887. Т. VII. Ч. I. С. 279-344.
- Symanowicz (1621). — Symanowicz T. Proba Verificatiey Omylney. Y dowod swowolenstwa maloslychanego Czerncow, y Iedynomyslnych Bractwa Wilenskiego. Chrzescianskiem Katholickiem uwazeniem. Zamosc, 1621.
- Веремеев (2023) — Веремеев С. Ф. Реформы Иосифа Вельямина Рутского как фактор укрепления униатской церкви на белорусско-украинских землях в первой половине XVII в. // История: факты и символы. 2023. № 3 (36) С. 65-76.
- Гайденко, Оспенников (2020) — Гайденко П.И., Оспенников Ю.В. Церковный суд на Руси XI-XIV вв. Исторический и правовой аспекты. СПб.: Изд-во СПбДА, 2020. 260 с.
- Голенченко (1989) — Голенченко Г.Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI — середине XVII в. Минск: Наука и техника, 1989. 285 с.
- Задорнов и др. (2024) — Задорнов А., прот., Волужков Д.В., Гайденко П.И., Митрофанов А.Ю., Хохлов A.A. О церковном законе, Божественном праве и принципе законности. Материалы круглого стола Барсовского общества 29 сентября 2023 года // Христианское чтение. 2024. №1. С. 78-97.
- Карский (1921) — Карский Е.Ф. Белорусы. T.III: Очерки словесности белорусского племени. Пг., 1921.
- Королев (2015) — Королев A.A. Константинов дар // Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 37. С. 119-131.
- Королев и др. (2013) — Королев A.A., Литвинова Л.В., Асмус В., прот. Карфагенские соборы // Православная энциклопедия. М., 2013. Т. 31. С. 447-461.
- Почекаев (2019) — Почекаев Р. Ю. Освещение роли Церкви и церковного права в учебном курсе «История государства и права России»: проблемы и перспективы // Христианское чтение. 2019. № 2. С. 99-106.
- Оспенников (2023) — Оспенников Ю.В. Актуальные проблемы изучения церковного права (промежуточные итоги работы Барсовского общества) // Христианское чтение. 2023. № 1. С. 180-198.
- Суша (2007) — Суша A.A. Аб нестварэнш грэка-каталщкай царквы у 1596 г. // Леу Сапега (1557-1633 гг.) i яго час: Зб. навук. арт. Гродна: ГрДУ, 2007. С. 294-299.
- Ткачук (2019) — Ткачук Р.Ф. Полемiчна традицiя уншних письменниюв кшця XVI — першо'1 половини XVII ст.: доба i постай, текст i прототекст, риторика i поетика. Кив: КММ, 2019.
- VI Барсовские чтения и круглый стол (2022) — VI Барсовские чтения и круглый стол «Перечитывая заново...» // Сайт Издательства СПбДА. URL: https://izdat-spbda.ru/ barsovskoe-obshchestvo/post/vi-barsovskie-chteniya-i-kruglyj-stol-perechityvaya-zanovo (дата обращения: 20.06.2024).