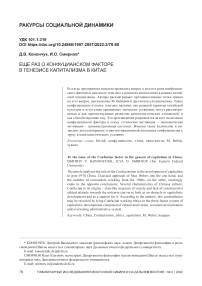Еще раз о конфуцианском факторе в генезисе капитализма в Китае
Автор: Конончук Дмитрий Васильевич, Смирнов Илья Олегович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Ракурсы социальной динамики
Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка прояснить вопрос о месте и роли конфуцианского фактора в контексте генезиса и развития капитализма в рамках китайской цивилизации. Авторы рассматривают противоположные точки зрения на этот вопрос, высказанные М. Вебером и другими исследователями. Такие конфуцианские в своем генезисе явления, как родовой характер китайской культуры и отсутствие креативных этических установок, могут рассматриваться и как препятствующие развитию капиталистических отношений, и как способствующие ему. Это противоречие разрешается за счет включения конфуцианского фактора в схему «этическая мотивация - экономическая мотивация - административная система». Именно такое включение и позволяет актуализировать этико-мотивационный потенциал конфуцианства к труду в капиталистических условиях.
Китай, конфуцианство, этика, капитализм, м. вебер, хуацяо
Короткий адрес: https://sciup.org/170195094
IDR: 170195094 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-2/78-85
Текст научной статьи Еще раз о конфуцианском факторе в генезисе капитализма в Китае
Стремительный экономический взлет, который вот уже три десятилетия демонстрирует Китай, происходит в том числе на глазах экономических экспертов, для которых он стал неожиданностью. Экспертная мысль в значительной степени реактивна; вот и теперь она бодро и с уверенностью перечисляет причины «китайского экономического чуда», запамятовав, что не так давно называла те же особенности в качестве объяснения «экономической отсталости» Китая. Еще совсем недавно идейной опорой экспертов по китайской экономике была знаменитая концепция Макса Вебера, противопоставлявшая экономической эффективности западного протестантизма (в частности, пуританства), специфику китайского конфуцианства, которое подобную эффективность продемонстрировать не смогло. Сегодня же, напротив, фраза «капитализм по Конфуцию» стала расхожим мемом. Разобраться в действительных взаимоотношениях конфуцианской этики и экономической эффективности непросто. Цель данной статьи заключается в том, чтобы попытаться прояснить вопрос о месте и роли конфуцианского фактора в контексте генезиса и развития капитализма в рамках китайской цивилизации.
Почему капитализм не возникв традиционном Китае: М. Вебер
Наиболее подробно вопрос о роли, которую сыграла конфуцианская идеология в судьбах экономической истории Китая, рассмотрен М. Вебером в первом томе его известной работы «Хозяйственная этика мировых религий», опубликованном в виде двух обширных статей на рубеже 1915–1916 гг. и вышедшем на русском языке в переводе О.В. Кильдюшова в 2017 г. [2]. Несмотря на критику, которой подвергается работа Вебера, она и сегодня, спустя более чем сто лет после своего выхода в свет, несмотря на коренным образом изменившиеся мировые политические и экономические реалии (и в первую очередь – ситуацию в самом Китае), не только не утратила своего научного значения, но, напротив, остается образцовым и в чем-то даже непревзойденным трудом с точки зрения охвата колоссального массива материала и широты подвергнутого анализу предметного поля. Вебер совершенно чужд каких-то скороспелых выводов и объяснения при помощи простых причинно-следственных связей; наоборот, в плане аргументации результатов исследования его труд столь же основателен, как и в отношении корпуса привлеченных источников. Труд Вебера и по сей день несомненный mustread для любого специалиста по конфуцианству.
Вебер достаточно прямо, хоть и далеко не сразу, сообщает, что центральной проблемой его работы является вопрос о том, почему в экономике Китая к его времени «не возникло даже зачатков современного капиталистического развития» несмотря на ряд достаточно благоприятных для этого условий [2, c. 154–155]. В методологии Вебера просматривается ряд положений, которые, по-видимому, представляются ему аксиоматичными и в целом служат основанием логики его исследования:
– экономическим и цивилизационным прогрессом Запад обязан капитализму. Фактически, для Вебера «капитализм» в этом смысле равнозначен «развитию» или «прогрессу»1;
– одним из опорных терминов Вебера является «рационализм», признаки которого в этической картине мира традиционных китайцев он постоянно пытается нащупать. Хозяйственная этика, которая могла бы способствовать капиталистической эффективности (т.е. прогрессу), должна быть именно рационалистической: иные варианты Вебером не рассматриваются.
Таким образом, исследователь должен, заранее предполагая те факторы, которые способствовали возникновению капитализма в Европе, отследить ситуацию, исторически сложившуюся вокруг этих факторов в традиционном Китае. Негативное положение вещей вокруг того или иного фактора, препятствия на пути его формирования «как на Западе» и должны быть отнесены к причинам того, что капитализм в традиционном Китае самостоятельно так и не возник.
Обнаруженные Вебером при помощи подобного подхода причины возможно в целом систематизировать следующим образом.
-
1. Отсутствие в Китае правовой системы западного типа. Капитализм, по мысли Вебера, требует формализованного права, поскольку оно максимально предсказуемо и дает предпринимателям гарантии правовой автономии [2, c. 276–277] их самих, их деятельности и их собственности. Проблемой являлось «отсутствие в Китае устойчивых, официально признанных, формальных и надежных правовых оснований свободного саморегулируемо-го торгового и ремесленного порядка, которые способствовали развитию мелкого капитализма внутри западного средневекового города» [2, c. 99]. Вебер описывает ситуацию, при которой система чиновничьего управления в Китае фактически представляла собой систему кормлений: чиновник отправлял государству и вышестоящим руководителям кодифицированный налог и обговоренные «тарифы», а остаток оставлял себе. Процесс управления страной, в частности – принятия судебных решений, осуществлялся в традиционном Китае в меру понимания тем или иным чиновником «справедливости», т.е. фактически являлся заложником его субъективных качеств. Это делало экономическую ситуацию максимально непредсказуемой и не способствовало возникновению долгосрочных предпринимательских стратегий.
-
2. Характер китайских городов. Формализация европейского права имела причиной, в частности, особый характер европейских городов. Города в Европе возникали как ремесленные центры, тяготеющие к политическому самоуправлению. Вебер неоднократно повторяет, что именно в рамках европейского города сложились важнейшие правовые институты, имевшие характер закрепленных правовых гарантий предпринимательской деятельности. В традиционном Китае же города представляли собой административные центры феодальной власти; в отличие от европейского города, город китайский начинался не с поселенцев, а «сверху», с огороженного места, куда затем уже привлекали людей, в ряде случаев переселяя насильно [2, c. 9–99]. В подобных условиях не возникло и не могло возникнуть «правовых форм и социологических оснований для капиталистического “предприятия” с его рациональным предметным ведением хозяйства, которое довольно
рано появилось в торговом праве итальянских городов» [2, c. 196].
-
3) Стагнация в рамках единой империи. Китайская цивилизация, в отличие от Западной, достаточно рано стала единым государством. В то время как требуемой Вебером «рационализации» цивилизационных основ более требует как раз ситуация внешнеполитической конкуренции, каковая, к примеру, имелась в Китае в VIII–III вв. в эпохи Чуньцю-Чжаньго. «Со времени замирения в империи отсутствовала рациональная война и, что гораздо важнее, постоянная подготовка к ней во время перемирия между конкурирующими самостоятельными государствами и такие обусловленные этим капиталистические явления, как военные займы и государственные поставки для военных нужд». Сюда же, по Веберу, примыкает фактор отсутствия у Китая заморских и колониальных связей [2, c. 221–222].
-
4) Родовой характер китайской культуры с ее ориентацией на семью и противопоставление «ближних» «дальним», по Веберу, породил целый веер токсичных для потенциального капиталистического предпринимательства факторов, среди которых:
-
– экономическая автаркия домохозяйств, в частности, мелкое родовое землевладение, препятствовавшее возникновению крупных предприятий [2, c. 177], развитое домашнее производство (в первую очередь, прядение и ткачество) [2, c. 202–203];
– семейно-родовой коллективизм, препятствовавший как складыванию свободного рынка труда [2, c. 210–211], так и появлению в числе крестьян экономически инициативных индивидов [2, c. 209];
– примат личных отношений над формализованными, глубокая доверительность, но только по отношению к своим родичам и «неслыханная неискренность» [2, c. 375] по отношению к тем, кто в их число не входит.
-
5) Отсутствие креативных этических установок. Закрепленная конфуцианством картина мира, предполагавшая приспособление к миру (а не овладение им), поскольку мир – в целом благое место, требующее окультуривающего поддержания, но не творческого преобразования [2, c. 373, 380–381, 396].
Легко заметить, что в полном смысле слова к культурно-этическим (и генетически восходящим к конфуцианству) могут быть отнесены лишь две последние причины, предшествую- щие же носят очень конкретный социально-политический характер. Соответственно, иная, нежели в эпоху Вебера, социально-политическая ситуация в континентальном Китае могла способствовать изменению конфигурации экономической этики китайцев, в т.ч. и роли в ней конфуцианства. Это в полной мере продемонстрировали события конца ХХ–XXI вв., стимулировавшие критику веберовской концепции и переосмысление эффективности конфуцианства в качестве стержня китайской экономической этики.
Почему капитализм сложился в Юго-Восточной Азии и современном Китае: критики Вебера
Тенденция к переосмыслению классического веберовского взгляда на взаимоотношения капитализма и конфуцианства намечается с 1960-х гг., и причиной тому стал скачкообразный подъем стран Юго-Восточной Азии, немалую роль в котором сыграли китайские диаспоры хуацяо ( 華僑 ). Наконец, когда в начале 1980-х гг. началась полноценная успешная капиталистическая трансформация материкового Китая, о взаимосвязи китайского конфуцианства и капитализма заговорили всерьез. Отметим наиболее значимые идеи в рамках данной тенденции.
-
а) « Мотивация к достижению ». Уже в 1960-х гг., еще до начала капиталистического подъема в странах Юго-Восточной Азии, Д. МакКлеланд, изучая феномен хуацяо , предположил, что доминирование «заморских китайцев» в торговле в регионе объясняется именно влиянием конфуцианства. Конфуцианство, по его мысли, создает сильную мотивацию к достижению общественно признаваемого успеха и уважения, однако если в континентальном Китае успех в первую очередь означал получение чиновничьей должности (намного более уважаемой в китайском обществе, нежели позиция торговца), то оторванные от китайской институциональной структуры хуацяо перенаправляли творческую энергию в единственную доступную им сферу – коммерцию. Концепция МакКлеланда получила название «мотивация к достижению» (Achievement Motivation Hypothesis) [12, p. 146].
Хуан Цзиньсин, тайваньский исследователь, развивавший гипотезу «мотивации к достижению» в 1980-е гг., проводил прямые параллели между развитием трудовой этики в протестан- тизме и конфуцианстве, в частности отмечая, что оба учения не ставили прямой цели повлиять на экономику, их трудовая этика является ненамеренно экономически ориентированной. Вместе с тем, Хуан Цзиньсин делает важное замечание, что одной лишь трудовой этики для развития капитализма недостаточно. Для этого требуются поддерживающие факторы – наличие капитала, технологий, социальных институтов [12, p. 146–147]. В рамках современных исследований, развивающих эту гипотезу, можно отметить концепцию «консервативной модернизации» В. Красильщикова [6], связывающую экономический подъем Юго-Восточной Азии именно с изменением социальных институтов. С точки зрения этой концепции, традиционные для конфуцианства институты построения меритократии в новых условиях переориентировались из «кузницы кадров» для государства в таковую для экономической сферы. При этом В. Красильщиков указывает на то, что данные изменения были инициированы «сверху», и именно государство активно пропагандировало важность развития экономики и почетность труда, в частности, коммерческого.
-
б) « Постконфуцианская гипотеза ». В 1970-х гг. Г. Кан и Р. Макфаркуар независимо друг от друга сформировали «постконфуцианскую гипотезу» (Post-Confucian Hypothesis) [12, p. 140–142]. «Постконфуцианская гипотеза» связывает экономический рост стран Юго-Восточной Азии именно со спецификой конфуцианской трудовой этики. Иронично, что «постконфуцианская гипотеза», называя те же факторы, что и за полвека до этого Вебер, отмечает их не как препятствующие, а как способствующие развитию капитализма. Родовой характер китайской культуры, в частности, семейно-родовой коллективизм, тяга к построению социальных структур по модели семьи, примат личных отношений над формализованными, с точки зрения Г. Кана и Р. Макфаркуара, способствует формированию этической мотивации к труду в силу необходимости выполнять социальные обязательства перед своими коллегами и начальниками. Отсутствие креативных этических установок, установка на приспособление к внешнему миру, а не на его творческое преобразование, в краткосрочной перспективе может приводить к снижению темпов экономического роста, но в долгосрочной обеспечивает общественную стабильность и крепкую основу экономического развития.
Подобное соотношение между этическим и экономическим наблюдается и в осмыслении конфуцианства в самом Китае. Характерный для конфуцианства примат этики над экономикой выступает основой государственной политики современного Китая [5, с. 7–8]. Построение экономической системы в соответствии с принципами конфуцианства признается основной причиной низкой социальной напряженности и способности обеспечить рост реального дохода в Китае [14]. Конфуцианство выступило идейной основой модернизации и экономического подъема Тайваня [3].
-
в) « Народное конфуцианство ». Наконец, в 1980-х гг. П. Бергер предложил оценивать не столько конфуцианство как философское учение, конфуцианство «книжников», сколько преломление конфуцианских установок в восприятии основных экономических акторов (в большинстве своем – людей без специальной теоретической подготовки). Эта концепция получила название «народное конфуцианство» (Vulgar Confucianism) [12, p. 144–145]. К примеру, один из факторов развития экономики в странах Юго-Восточной Азии, высокий уровень сбережений домохозяйств, первоначально был связан с необходимость собрать средства на традиционные похороны родителей. В большинстве стран Азии действует уже не столько сама конфуцианская установка (уважительное отношение к старшим, в первую очередь – родителям), сколько ее народное переосмысление, ненамеренно приводящая к увеличению нормы сбережения. Экономический подъем Японии некоторыми исследователями мыслится именно как результат переосмысления конфуцианской трудовой этики с точки зрения японского мировосприятия (в первую очередь – самурайской этики) [13]. А основы современной китайской корпоративной культуры находят в традициях китайского купечества, торговых практиках китайских купцов, основанных на традиционной конфуцианской этике [1].
Триада «экономическая мотивация – этическая мотивация – административная система»
Такие явления, как родовой характер китайской культуры и отсутствие креативных этических установок, являются конфуцианскими по происхождению. При этом, как мы только что имели возможность убедиться, именно эти явления рассматриваются исследователями, с одной стороны, как препятствовавшие возник- новению капитализма в традиционном Китае, с другой стороны, как способствовавшие капиталистическим отношениям в среде китайцев-хуацяо и особенно в Китае посттрадиционном. Ирония заключается в том, что выводы исследователей были мотивированы попыткой объяснить социоэкономические реалии Китая, современные им, но реалии эти в первой трети XX в. и в последней его трети складывались в прямо противоположные картины, поэтому соответствующие им объяснения кажутся противоречащими друг другу.
По-видимому, и у Вебера, и у отмеченных авторов 1960-х – 1980-х гг., в привлечении генетически конфуцианских явлений к объяснению противоположных очевидностей двух эпох можно увидеть некую натяжку, но суть кажущегося противоречия в другом. А именно: стоящие за этими явлениями факторы более общего порядка по-разному проявляют себя в зависимости от характера и целостности структуры, составными элементами которой он становятся. Вот и возникновение капитализма также является результатом комплексного совпадения факторов, каждый из которых по отдельности, при всей степени своей продвинутости, не даст желаемого результата. И только оказавшись в наличии в одно время в одном месте, вступив во взаимодействие, эти факторы способны вызвать эффект резонанса, в котором и рождается явление, в данном случае – капитализм.
Анализируя явления, рассматриваемые авторами, мы выделяем три таких фактора. Факторами, конфигурация которых стимулировала процесс становления капитализма, стали этическая мотивация к капиталистическому труду; экономическая мотивация к капиталистическому труду; административная система, способная оформить капиталистический труд институционально и оградить его от потенциально губительных тенденций (разрешая системные противоречия, нейтрализуя выявленные дефекты, защищая от внешней конкуренции). Собранные вместе, эти факторы составляют как бы поставленный на биссектрису прямоугольный треугольник, где первый и второй катеты как бы поддерживают друг друга («трудиться – благородно» и «эффективно трудиться – благо-родно»)2, а биссектриса оформляет собой целое, замыкая его в действительность: «эффективно трудиться – благородно и возможно».
Так, приведенные примеры показывают, что родовой характер китайской культуры, фундированный конфуцианством, в целом позволил сформировать этические установки, мотивирующие к труду. То, что китайцы – народ трудолюбивый, общеизвестно. Однако раскрыться в качестве фактора становления капитализма китайское трудолюбие сумело только в среде хуацяо , где к этической мотивации добавилась мотивация экономическая, как было показано выше. Наконец, в материковом Китае после реформ начала 1980-х гг. традиционная этическая мотивация и формирующаяся экономическая мотивация китайцев получили мощную поддержку и возможности в рамках административной системы, ориентированной на капиталистический тип экономики. Именно административная система сыграла роль контура самоописания (ау-топойесиса) всего явления в целом, обеспечила его идентичность, т.е. стабильное, упорядоченное существование во времени.
Мы полагаем, что выделенные нами три фактора имеют универсальный характер, т.е. применимы для объяснения генезиса и особенностей капиталистических отношений в любой стране. Своеобразная комбинация этих трех факторов обусловила характер капитализма в таких странах, как Италия [9, p. 7, 10, 15–16], Нидерланды [10, p. 663–665; 17, p. 61–62, 65, 69], Англия [7, p. 126–127, 129; 11, p. 87–88, 90], Франция [4, c. 51–52; 16, p. 226] и др. Будучи ограниченными целями данной статьи, а также ее небольшим объемом, мы рассмотрим данный вопрос подробнее в будущих наших работах.
Возвращаясь к китайским реалиям, еще раз заметим, что отмеченная триада факторов оказалась полностью задействованной в Китае с начала 1980-х гг., что и привело к стремительному капиталистическому развитию Китая. Конкретно это видится нам следующим образом. В 1978 г. руководство Китая формирует Особые экономические зоны (ОЭЗ) в четырех небольших городах – Шэнчжень, Чжухай, Сямэнь и Шаньтоу. ОЭЗ выступали в качестве площадки для поверки эффективности планируемых реформ [8, p. 680]. В ОЭЗ осуществлялась постепенная передача производственных мощностей от центрального правительства к местным властям и, позже, частным лицам [15, p. 236–237]. Был открыт доступ для иностранных инвестиций [18, p. 223–224]. Уже к середине 1980-х гг.
реформы были распространены дальше, на Китай в целом [15, p. 236–237]. После того, как китайские граждане стали собственниками, у них появилась личная мотивация к повышению эффективности труда. Руководство Китая не только в большинстве своем не противостояло рыночной переориентации – планированием и внедрением реформ занимались партийные руководители и ученые-экономисты на госслужбе [8, p. 680]. Однако даже в таких условиях широкого развития капиталистических институтов не произошло бы без завершающего элемента – конфуцианской трудовой этики, превращавшей рациональное обогащение в самоцель. Можно провести прямую параллель между протестантизмом, в рамках которого обогащение выступало способом прославления Бога, и конфуцианством, которое в пореформенном Китае подталкивало индивида к безграничному обогащению ради достижения общественного признания.
Общую схему развития капитализма в Китае после 1978 г. можно представить следующим образом:
-
1) Экономическая мотивация к труду . Почти смиттианская апелляция к своекорыстному интересу, в дореформенный период практически отсутствовавшая из-за централизованного и во многом уравнительного характера китайской экономики, создавала у экономического агента мотивацию к возможно более эффективному, рациональному использованию вверенных ему ресурсов. Проводя экономические реформы, китайские коммунисты опирались не столько на работы Маркса, сколько на уроки классической политэкономии Смита, Сэя, Рикардо.
-
2) Конфуцианская трудовая этика . Конфуцианская трудовая этика способствовала появлению снижавших транзакционные издержки неформальных связей как внутри предприятия, так и в более широком масштабе, на уровне отношений между крупными экономическими агентами и регулирующими институтами. Кроме того, конфуцианская трудовая этика создавала контур самоописания экономического субъекта, в рамках которого экономическая деятельность выступала не только в качестве социально приемлемого действия, но и в качестве достойного действия – рациональное обогащение рассматривалось и как форма служения общему делу модернизации Китая.
-
3) Административная система . На всех этапах реформирования экономики китайское поли-
- РАКУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ тическое руководство способствовало разработке и реализации экономической политики. Проводя политику либерализации экономики, КПК, с одной стороны, обеспечивала плавное, поэтапное развитие, учет региональной специфики, стабилизируя экономику, а с другой – использовала свое политические и культурное влияние для привлечения иностранных инвестиций, обеспечения всенародной поддержки реформ.
Выводы
Как мы видели выше, одни и те же социокультурные явления, которые имеют конфуцианский генезис (родовой характер китайской культуры и отсутствие креативных этических установок), могут рассматриваться и как препятствующие развитию капиталистических отношений (традиционный Китай), и как способствующие ему (китайские диаспоры- хуацяо , посттрадиционный Китай).
Подобная амбивалентность объясняется тем, что конфуцианские установки несут в себе потенциально сильную этическую мотивацию к капиталистическому труду. Однако актуализировать этико-мотивационный потенциал конфуцианства оказывается возможным, лишь когда фактор конфуцианской этики оказывается дополненным другими факторами. Мы выделили три таких фактора: это этическая мотивация к капиталистическому труду, экономическая мотивация к капиталистическому труду, административная система, способная оформить капиталистический труд институционально и оградить его от потенциально губительных тенденций. Данные факторы, как нам представляется, носят универсальный характер и в той или иной конфигурации обнаруживаются в процессах генезиса и раннего развития капитализма в самых разных странах мира, обеспечивая тем самым характер особенностей этого развития.
Список литературы Еще раз о конфуцианском факторе в генезисе капитализма в Китае
- Арташкина Т.А., Ван Ифэй. Китайская традиционная культура как духовная и идеологическая основа китайской корпоративной культуры // Общество: философия, история, культура. 2018. № 11. С. 127-134.
- Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: Опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм. СПб.: Владимир Даль, 2017.
- Деметрадзе М.Р. Модернизация на Тайване: сочетание конфуцианства с капитализмом // Общественные науки и современность. 2018. № 6. С. 69-78.
- Дружинин Н.Л., Мисько О.Н. Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2011. № 3. С. 49-59.
- Каретина Г.С. Конфуцианство в процессе модернизации Китая // Известия Восточного института. 2015. № 2. С. 3-9.
- Красильщиков В.А. Консервативная модернизация в Восточной Азии: достижения и пределы // Идеи и идеалы. 2019. Т. 11. № 3. Ч. 2. С.231-263.
- Acemoglu, D., 2000. Political losers as a barrier to economic development. The American Economic Review, Vol. 90, no. 2, pp. 126-130.
- Cao Shixiong, 2012. Why China's approach to institutional change has begun to succeed. Economic Modelling, Vol. 29, no. 3, pp. 679-683.
- Epstein, S.R., 1999. The rise and decline of Italian city-states. Working paper no. 51/99. London: London School of Economics.
- Gelderbloom, O. and Jonker, J., 2004. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595-1612. The Journal of Economic History, Vol. 64, no. 3, pp.641-672.
- Hudson, G., 2017. 1688 and all that: property rights, the Glorious Revolution and the rise of British capitalism. Journal of Institutional Economics, Vol. 13, no. 1, pp. 79-107.
- Jochim, C., 1992. Confucius and capitalism: views of Confucianism in works on Confucianism and Economic Development. Journal of Chinese Religions, Vol. 20, no. 1, pp. 135-171.
- Kim, S.-K., 1992. Confucian Capitalism: Recycling Tradition. Telos, no. 94, pp. 18-25.
- Poznanski, K.Z., 2015. Confucian economics: the world at work. World Review of Political Economy, Vol. 6, no. 2, pp. 208-251.
- Shirk, S., 1990. «Playing to the provinces»: Deng Xiaoping's political strategy of economic reform. Studies in Comparative Communism, Vol. 23, no. 3-4, pp. 227-258.
- Shovlin, J., 2003. Emulation in eighteenth-century French economic thought. Eighteenth-Century Studies, Vol. 36, no. 2, pp. 224-230.
- Van Bavel, B.J.P., 2010. The medieval origins of capitalism in the Netherlands. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, no. 125, pp. 45-79.
- Yeung, Y., Lee, J. and Kee, G., 2009. China's special economic zones at 30. Eurasian Geography and Economics, Vol. 50, no. 2, pp. 222-240.