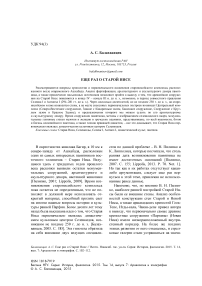Еще раз о Старой Нисе
Автор: Балахванцев Арчил Савелич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология и антропология Евразии
Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы хронологии и первоначального назначения старонисийского комплекса, расположенного возле современного Ашхабада. Анализ фортификации, архитектурного и скульптурного декора памятника, а также привлечение письменных источников позволяют прийти к выводу о том, что древнейшие сооружения на Старой Нисе появляются в конце IV - начале III в. до н. э., возможно, в период совместного правления Селевка I и Антиоха I (294-281 гг. до н. э.). Через несколько десятилетий, но не позднее 250 г. до н. э., на старонисийском холме возводятся стены, а на месте снесенных первоначальных построек возникает Центральный комплекс (Северо-Восточное сооружение, Здание с Квадратным залом, Башенное сооружение, Сооружение с Круглым залом и Красное Здание), о предназначении которого мы можем судить по его архитектурному и скульптурному декору. Время сооружения памятника, метопы с изображением селевкидского якоря, монументальные глиняные статуи мужчин и женщин в греческих одеяниях, представлявшие, по всей видимости, богов и богинь олимпийского пантеона, а также членов правящей династии, - все это доказывает, что Старая Ниса первоначально являлась династическим культовым центром Селевкидов.
Старая ниса, селевкиды, селевк i, антиох i, династический культ, пантеон
Короткий адрес: https://sciup.org/147219381
IDR: 147219381 | УДК: 94(3)
Текст научной статьи Еще раз о Старой Нисе
В окрестностях кишлака Багир, в 10 км к северо-западу от Ашхабада, расположен один из самых интересных памятников восточного эллинизма – Старая Ниса. Ведущиеся здесь с тридцатых годов прошлого века раскопки выявили остатки монументальных сооружений, архитектурного и скульптурного декора, настенной живописи [Пилипко, 2001; Lippolis, 2009]. Время возникновения старонисийского комплекса пока остается не определенным, что не позволяет в должной мере использовать открытый материал, способный пролить свет на многие важные вопросы истории и культуры ранней Парфии. Более десяти лет тому назад была высказана идея о том, что Старая Ниса первоначально являлась династическим культовым центром Селевкидов, возникшим не позднее 250 г. до н. э. [Балах-ванцев, 2005. C. 185]. Эта гипотеза обратила на себя внимание двух ведущих специали- стов по данной проблеме – В. Н. Пилипко и К. Липполиса, которые посчитали, что столь ранняя дата возникновения памятника не имеет достаточных оснований [Пилипко, 2007. C. 155; Lippolis, 2013. P. 70. Not. 1]. Но так как в их работах отсутствует какая-либо аргументация, следует еще раз вернуться к этой теме, привлекая не использованные ранее данные.
Напомню, что, по мнению В. Н. Пилип-ко, наиболее ранней постройкой Старой Ни-сы были ее внешние стены. Анализ особенностей конструкции стен Старой и Новой Нисы, а также аршакидских крепостей Геок-Тепе, Игды-кала, Чакан-депе привел автора к выводу, что первоначально самые древние крепостные сооружения «Партавы» (Новая Ниса) имели низкорасположенный внутри-стенный коридор. На более же поздних этапах развития от него отказались, и стрелковые галереи стали устраиваться на значи-
Балахванцев А. С. Еще раз о Старой Нисе // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 102–112.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография
тельной высоте от основания. Поскольку в стенах Старой Нисы внутристенный коридор был поднят на уровень второго яруса или вообще отсутствовал, то крепостные укрепления на Старой Нисе сооружены позднее, чем на Новой, и их следует отнести не к раннеэллинистическому (конец IV – первая половина III в. до н. э.), а к аршакид-скому периоду (середина III – середина II в. до н. э.) [Пилипко, 2001. C. 137, 338–339] 1.
Однако согласиться с данной точкой зрения не представляется возможным. Во-первых, крепостные стены отнюдь не всегда сооружались в первую очередь. Так, кроме греческой Олимпии и малоазиатского святилища богини Гемитеи [Балахванцев, 2005. C. 173] следует учесть бактрийский Сурх-Котал и хорезмийскую Аяз-калу-3: крепостные стены вокруг обоих памятников появились позже их возведения [Schlumberger еt al., 1983. P. 19; Болелов, 1998. C. 130, 134]. Во-вторых, спорным представляется утверждение В. Н. Пилипко (со ссылкой на Н. И. Крашенинникову) о наличии в основании стен Новой Нисы внутристенных коридоров. Последняя, напротив, подчеркивает, что «основание стены составляет мощное монолитное ядро высотой не менее 9–9,5 м», а внутристенный коридор с бойницами находился выше [Крашенинникова, 1978. C. 116, 118]. В-третьих, против понимания высоты расположения внутристенной стрелковой галереи в качестве хронологического признака свидетельствует фортификация Игды-калы. Три стены этой крепости, выходившие на относительно ровную каменную площадку, имели бойницы, расположенные на уровне «второго этажа», а в обращенной к глубокому каньону северовосточной стене стрелковый коридор находился прямо на материке [Вайнберг, Юсупов, 1984. C. 24; Юсупов, 1986. C. 156–157].
Все это еще раз подтверждает тот вывод, что конструктивные особенности стен Старой Нисы не дают оснований для уточнения датировки объекта в пределах III в. до н. э. и, естественно, никак не могут доказывать невозможность возникновения всего комплекса в селевкидский период [Балахванцев, 2005. C. 174].
Важную роль в хронологии Старой Нисы играют базы колонн. Они обнаружены в древнейших сооружениях Старой Нисы – портиках к юго-востоку от Здания с Квадратным Залом [Пилипко, 1996. С. 15–16] и Красном Здании [Lippolis, 2009. P. 55], – относятся к одному и тому же типу баз со съемным тором и характеризуются следующими чертами: квадратный в плане двух-или трехступенчатый плинт и увенчанный небольшим цилиндрическим пояском тор [Пилипко, 1996. Табл. 9, 1–3 ; Lippolis, 2009. P. 56. Fig. 7] 2. Наиболее близкие аналогии с базами с двухступенчатым плинтом встречаются в храме Окса на Тахти-Сангине [Литвинский, Пичикян, 2000. Табл. 40], а с трехступенчатым – в пропилеях Ай-Ханум [Bernard, 1973. P. 19. Fig. 1]. Б. А. Литвин-ский, проанализировав их развитие на территории Ирана и Средней Азии, показал, что базы со съемными торами должны датироваться промежуточным периодом между ахеменидскими памятниками Западного Ирана (VI–IV вв. до н. э.) и эллинистическими Ай-Ханум (III–II вв. до н. э.), где торы выбиты вместе с постаментами, т. е. концом IV – самым началом III в. до н. э. [Литвинский, Пичикян, 2000. С. 141–153]. Опираясь на это наблюдение, можно заключить, что каменные базы со съемными торами из самых ранних построек Старой Ни-сы следует датировать тем же периодом, т. е. концом IV – началом III в. до н. э. [Ба-лахванцев, 2005. C. 174].
Однако открытие монолитных баз с двухступенчатым плинтом в ахеменидском дворце в Караджамирли (Шамкирский район Азербайджана) показывает, что схема Б. А. Литвинского нуждается в определенной корректировке 3. Новые материалы позволяют говорить о сосуществовании композитных и монолитных баз в V–III вв. до н. э. Поэтому, учитывая даты бактрийских аналогий, эти элементы колонн из самых ран- них построек Старой Нисы следует отнести к III в. до н. э.
Поскольку глиняная скульптура появилась в Здании с Квадратным Залом и Сооружении с Круглым Залом уже на первом этапе их функционирования [Крашенинникова, Пугаченкова, 1964. С. 125; Пилипко, 2001. С. 189, 249, 262], то датировка скульптурных фрагментов позволяет определить и время сооружения всего Центрального комплекса. Наиболее интересные перспективы в этом плане открывает анализ обнаруженных в Белой комнате Здания с Квадратным Залом двух глиняных голов [Пилипко, 1996. С. 142–145], особенно одной из них, увенчанной шлемом, исключительно хорошей сохранности [Пилипко, 1996. Табл. V]. Проведение аналогий дало возможность заключить, что голову в псевдоаттическом шлеме из Старой Нисы следует отнести к первой половине – середине III в. до н. э. [Балах-ванцев, 2005. С. 175–180].
В настоящее время число этих аналогий можно расширить за счет изображения псевдоаттического шлема на свинцовом жетоне, найденном при раскопках Агоры Афин [Kroll, 1977. Pl. 40, 1 ], который датируется около середины III в. до н. э. [Там же. P. 141; Camp, 1986. P. 120]. По поводу упомянутого шлема из Продроми следует заметить, что первоначальная датировка 350–325 гг. до н. э. [Choremis, 1980. P. 18] не получила поддержки среди исследователей, и его чаще датируют рубежом IV–III в . до н. э. [Rakatsanis, Otto, 1980. S. 57; Dintsis, 1986. S. 276].
Но максимальным сходством с нисий-ским экземпляром обладает хранящийся в Эрмитаже железный шлем с серебряными украшениями, найденный в гробнице возле Карантинного шоссе в Керчи [Балахванцев, 2005. С. 179], с чем согласился Д. П. Алексинский, подробно изучивший керченский артефакт [Алексинский, 2008. С. 68. Примеч. 179]. М. Ю. Трейстер, рассмотрев археологический контекст находки, отнес захоронение к началу третьей четверти III в. до н. э. [Трей-стер, 2010. С. 597–600], что не позволяет датировать этот шлем позднее 250 г. до н. э. 4
Все это еще раз свидетельствует о том, что здания со скульптурой из необожженной глины появились на Старой Нисе еще в первой половине III в. до н. э.
Немаловажную роль в датировке старо-нисийского комплекса играет архитектурный декор. В ходе раскопок Красного Здания итальянские археологи обнаружили, что цоколь его северного фасада облицован каменными плитами, орнаментированными цепочкой бочковидных бусин по верхней кромке и отходящими от нее вертикальными каннелюрами [Lippolis, 2004. Fig. 6–8. Tav. IX; Lippolis, 2009. P. 56. Fig. 6]. Фрагменты аналогичной облицовки находили и ранее, в процессе исследования Здания с Квадратным Залом и Башнеобразного сооружения [Пилипко, 1996. Табл. 31, 4 , 7 ]. Нисийские пластины являются несколько упрощенной и перевернутой на 180° копией карнизов дверных проемов, окон и ниш Персеполя [Schmidt, 1953. P. 222. Pls. 128B, 191A, 204A]. Копирование отдельных фрагментов каменного убранства дворцов Пер-сеполя было распространено в Иране и в эллинистическую эпоху [Klose, Müseler, 2008. Farbtaf. 4], и при ранних Сасанидах [Луконин, 1977. С. 142], однако архитектура древней столицы вряд ли могла повлиять на зодчих Старой Нисы в 160–120 гг. до н. э., когда независимая в это время Персида была отделена от парфян крайне враждебной по отношению к последним державой Се-левкидов. Более подходящим временем для такого влияния являются эпохи, когда области, в которых расположены оба комплекса, входили в состав одной державы. Арша-киды установили контроль над Персидой только при Митридате II, но последняя четверть II в. до н. э. представляется слишком поздней датой для возведения Красного Здания 5. Поэтому более обоснованным выглядит вариант создания этого памятника при Селевкидах в III в. до н. э.
лам [Kopcke, 1964. S. 72. № 142] – наиболее вероятна последняя четверть IV в. до н. э.
Как уже отмечалось, многие исследователи полагают, что ахеменидо-селевкидская сатрапия Партава (Парфиена) располагалась по обеим сторонам Копетдага. Естественно, что в таком случае вторжение Аршака в Парфиену означало и захват парнами района вокруг современного Ашхабада, включая Старую и Новую Нису, а все открытые там сооружения и артефакты после середины III в. до н. э. автоматически должны относиться к Аршакидам [Балахванцев, 2005. С. 182].
Но в III в. до н. э., как и в предыдущую эпоху [Там же. С. 183], Парфиена не охватывала предгорья Копетдага. О ее западной границе можно судить на основании того, что упомянутый Полибием и Аппианом город парфиенов Каллиопа [Polybius, 1893. S. 99; Appianus, 1962. S. 406] находился в Хоаре, или Хоарене [Pliny, 1989. P. 370], области, расположенной восточнее Каспийских Ворот (горный проход Сар-и Дара в 12 км к юго-востоку от Эйванеки).
Для того чтобы определить северные пределы Парфиены, надо рассмотреть два важных свидетельства Страбона, который, опираясь на Аполлодора из Артемиты, сообщает буквально следующее: через область Несайю и вблизи области парфиенов протекает река Ох, на берегах которой живут кочевники – парны. Именно отсюда Аршак вторгся в Парфиену и завоевал ее [Strabo, 1877. S. 715, 723]. Река Ох в данном контексте может ассоциироваться только с Атреком и его притоком Сумбаром [Балахванцев, 1998. С. 154–155; 2005. С. 184] 6. Такая локализация делает понятным замечание Страбона о том, что древние авторы, в том числе и историки Александра Македонского, не упоминают реки Ох [Strabo, 1877. S. 715]. Объясняется это тем, что сам Александр следовал в Арию через Парфиену, т. е. не по долине Атрека, а гораздо южнее, по Эсфераинской дороге. Она шла вдоль рек Карасу и Сорхаб, и между хребтами Шах-Джехан и Биналуд выходила в долину Ке-шефруда 7. Таким образом, северной границей Парфиены служили Нишапурские горы.
Что же касается Несайи, то она в III в. до н. э. в состав Парфиены не входила и бы- ла самостоятельной областью. Это неопровержимо доказывается тем, что Страбон, говоря о периоде, предшествующем вторжению Аршака в Парфиену, упоминает Не-сайю отдельно как от Гиркании, так и от равнин парфиенов [Strabo, 1877. S. 718]. О местоположении Несайи можно судить по следующим данным. Во-первых, столичный город этой области – Несайя (Парфавниса) – можно уверенно отождествить с городищем Новая Ниса [Балахванцев, 2002. С. 439; 2005. С. 184–185]. Во-вторых, Несайя охватывала часть лежащей к югу от Копетдага долины Атрека между современными городами Ширван и Кучан.
Но возможно ли, чтобы административная область лежала поперек горного хребта? Ведь еще И. М. Дьяконов подчеркивал, что «названия областей должны в основном соответствовать долинам и что невозможно размещать историко-географические названия поперек горных хребтов» [2008. С. 115]. Представляется, что в случае с Несайей дело обстояло именно так. В ряде найденных в крепости Михрдаткирт (Старая Ниса) парфянских остраконов фиксируется поступление вина с земель оросительного канала «из-за гор» [Diakonoff, Livschits, 2001. № 593– 608], что свидетельствует о вхождении в состав сатрапии территории к югу от Ко-петдага. Интересно, что и по данным географа XIII в. Якута, к области Несы относились некоторые селения к югу от Копетдага [Бартольд, 2002. C. 129].
После начала парнской экспансии военно-политическая ситуация в Парфиене и Несайе складывалась следующим образом. Разумеется, захват Парфиены Аршаком I около 238 г. до н. э. не означал перехода под его власть и Старой Нисы: никаких следов присутствия на ней в это время парнов не зафиксировано. Тем не менее связи Несайи с основной территорией державы Селевки-дов были серьезно затруднены и могли теперь идти только через Арию и Дрангиану 8. В 231 г. до н. э. Селевк II Каллиник начал свой восточный поход и нанес Аршаку тяжелое поражение, заставившее последнего бежать за Окс к апасиакам [Strabo, 1877. S. 721]. Парнам пришлось покупать мир у Селевка ценой признания вассальной зави- симости и принятия на себя обязательства поставлять воинов в селевкидскую армию [Балахванцев, 2000]. Взамен Селевк II разрешил вождю парнов остаться на берегах Оха.
На статус Парфиены по этому соглашению может пролить свет беглое замечание Полибия, согласно которому во время восстания Молона в 222 г. до н. э. вождь мятежников подкупом снискал благосклонность «глав соседних сатрапий» 9. Если учесть, что сам Молон был сатрапом Мидии, а его брат и сообщник Александр – Персиды, что к северу от Мидии находилась независимая от Селевкидов Мидия Атропа-тена, что Молон силой захватил примыкавшие к Мидии с запада и юга Аполлониати-ду, Сузиану (кроме акрополя Суз), Вавилонию, область у Эритрейского моря, Селевкию-на-Тигре, Месопотамию и Паро-потамию [Polybius, 1889. S. 239, 240–241, 244, 246, 251], то, казалось бы, логично предположить, что к сатрапам, соблюдавшим по отношению к Молону дружественный нейтралитет, относились как минимум наместники Парфиены и Кармании 10.
Однако данное свидетельство Полибия получило в литературе совсем другую трактовку. Так, Х. Шмитт считал, что под термином «сатрапии» скрываются бывшие се-левкидские провинции, которые уже отпали [Schmitt, 1964. S. 123]. Такая интерпретация слов Полибия нашла поддержку у Дж. Ма, увидевшего в них доказательство того, что «независимые княжества Атропатена, Пар-фиена и Бактрия все еще упоминались Се-левкидами как сатрапии» [Ma, 1999. P. 30]. Но можно ли считать Полибия столь небрежным в отношении терминологии или столь ангажированным в плане политики?
В своем сочинении Полибий именует области державы Селевкидов к востоку от Евфрата то «верхними сатрапиями» [Polybius, 1889. S. 239, 246, 251], то «верхними областями» [Ibid. S. 239, 244]. Говоря же о планируемых Антиохом III походах против владык варваров, живущих «над его собст- венными и пограничными с ними сатрапиями», Полибий употребляет только выражение «верхние области» [Polybius, 1889. S. 251] 11. Оно же используется Полибием при подведении итогов «анабасиса» Антиоха III в 209–206 гг. до н. э. [Polybius, 1893. S. 171]. Таким образом, у нас нет ни одного случая, когда Полибий называет заведомо не принадлежащие Селевкидам области «сатрапиями», а их правителей – «сатрапами» 12. Более того, области Артабазана и Ксеркса даже именуются «царствами» [Polybius, 1889. S. 251, 438]. Точно так же не умалчивает Полибий и о царских титулах Евтидема и Софагасена [Polybius, 1893. S. 170, 171].
Из всего сказанного следует, что замечание Полибия [Polybius, 1889. S. 240] действительно свидетельствует о наличии в 222 г. до н. э. в Парфиене селевкидского сатрапа, который вернулся туда в соответствии с условиями договора 230 г. до н. э.
В 217 г. до н. э. Антиох III потерпел поражение от египтян в битве при Рафии, что стало для Аршака I сигналом для провозглашения своей независимости. В течение короткого времени парны захватывают се-левкидские земли вплоть до Каспийских Ворот. О ситуации в Несайе в этот период мы можем судить на основании найденных на Старой Нисе двух свинцовых тетрадрахм Антиоха III местной чеканки [Houghton, Lorber, 2002. P. 466]. Судя по тому, что портрет царя на этих монетах относится к так называемому типу А, применявшемуся в 223–211 гг. до н. э., а свинец употреблялся при чеканке лишь в самых крайних обстоятельствах [Barag, 1984. P. 1–5], можно прийти к выводу, что Старая Ниса в 217–211 гг. до н. э. оставалась под контролем Селевки-дов, но судьба ее была неопределенной 13.
Восточный поход Антиоха III привел к тому, что после 209 г. до н. э. status quo ante bellum в Парфиене и Несайе опять был восстановлен. Парнам пришлось по-прежнему соблюдать лояльность в отношении Селев-кидов и посылать своих воинов для участия в войне с Римом [Балахванцев, 2005. С. 186]. В пользу возвращения захваченных парнами земель под власть Селевкидов говорит и факт открытия Антиохом III нового монетного двора, помечавшего свою продукцию монограммой из кси, альфы и ро. Судя по тому, что на самых ранних выпусках использовался портрет царя типа В, введенный около 211–210 гг. до н. э., двор был организован сразу после победы над Аршаком II и, скорее всего, находился в Гекатом-пиле [Houghton et al., 2008. P. 694] 14. И только в конце 60-х гг. II в. до н. э. Несайя и Парфиена переходят в руки Аршакидов [Балахванцев, 2005. С. 187].
Таким образом, на протяжении III – начала II в. до н. э. Старая Ниса не находилась под властью Аршакидов, а Парфиена была оккупирована ими только на протяжении четырнадцати лет (238–231 и 217–210 гг. до н. э.).
Проведенный анализ источников и полученные промежуточные результаты позволяют прийти к следующему заключению. Древнейшие сооружения на Старой Нисе появляются в конце IV – начале III в. до н. э., возможно, в период совместного правления Селевка I и Антиоха I (294–281 гг. до н. э.). Через несколько десятилетий, но не позднее 250 г. до н. э., на старонисийском холме возводятся стены, а на месте снесенных первоначальных построек возникает Центральный комплекс (Северо-Восточное сооружение, Здание с Квадратным Залом,
Башнеобразное сооружение, Сооружение с Круглым Залом и Красное Здание), о предназначении которого мы можем судить по его архитектурному и скульптурному декору 15. Время сооружения памятника, метопы с изображением селевкидского якоря на стенах Здания с Квадратным Залом и Башнеобразного сооружения, глиняные статуи мужчин и женщин в греческих одеяниях, представлявшие, по всей видимости, богов и богинь олимпийского пантеона, а также членов правящей династии, – все это свидетельствует о том, что Старая Ниса была династическим культовым центром Селевки-дов.
Овладев Нисой, Митридат I заимствовал у своих селевкидских предшественников не только идею и форму отправления династического культа [Пилипко, 2001. С. 350], но и предназначенный для этого архитектурный комплекс. Поэтому закономерно, что после проведения соответствующей реконструкции Старая Ниса, получившая от своего завоевателя новое имя Михрдаткирт, стала использоваться в качестве династического культового центра Аршакидов.
Список литературы Еще раз о Старой Нисе
- Алексинский Д. П. Античный железный шлем из погребения воина у Карантинного шоссе близ Керчи//Труды Государственного Эрмитажа. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2008. Т. 41. С. 31-70.
- Балахванцев А. С. Дахи и арии у Тацита//ВДИ. 1998. № 2. С. 152-160.
- Балахванцев А. С. Селевк II Каллиник и Парфия//Межгосударственные отношения и дипломатия в античности. Казань: Мастер Лайн, 2000. С. 201-216.
- Балахванцев А. С. К вопросу о локализации Парфавнисы//ПИФК. М.; Магнитогорск, 2002. Вып. 12. С. 436-441.
- Балахванцев А. С. Старая Ниса: хронология и интерпретация//Центральная Азия: источники, история, культура. М.: Вост. лит., 2005. С. 172-190.
- Бартольд В. В. К истории орошения Туркестана//В. В. Бартольд. Работы по исторической географии. М.: Вост. лит., 2002. 711 с.
- Не исключено, что этому способствовали набеги парнов .
- Болелов С. Б. Крепость Аяз-кала 3 в правобережном Хорезме//Приаралье в древности и средневековье. М.: Вост. лит., 1998. С. 116-135.
- Вайнберг Б. И., Юсупов Х. Ю. О фортификационных особенностях парфянской крепости Игды-кала на Узбое//Памятники Туркменистана. 1984. № 1. С. 23-25.
- Виноградов Ю. Г, Карышковский П. О. Каллиник, сын Евксена. Проблемы политической и социально-экономической истории Ольвии второй половины IV в. дон. э. Часть 2//ВДИ. 1983. № 1. С. 21-38.
- Дьяконов И. М. История Мидии. СПб.: СПбГУ, 2008. 570 с.
- Крашенинникова Н. И. Некоторые наблюдения на некрополе Парфавнисы//История и археология Средней Азии. Ашхабад: Ылым, 1978. С. 115-127.
- Крашенинникова Н. И., Пугаченкова Г. А. Круглый храм парфянской Нисы//СА. 1964. № 4. С. 119-135.
- Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). М.: Вост. лит., 2000. Т. 1: Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. 503 с.
- Луконин В. Г. Искусство Древнего Ирана. М.: Искусство, 1977. 232 с.
- Пилипко В. Н. Старая Ниса. Здание с квадратным залом. М.: Вост. лит., 1996. 160 с.
- Пилипко В. Н. Старая Ниса. Основные итоги археологического изучения в советский период. М.: Наука, 2001. 431 с.
- Пилипко В. Н. Некоторые итоги археологических исследований на Старой Нисе//РА. 2007. № 1. С. 150-158.
- Пичикян И. Р. Культура Бактрии (ахеменидский и эллинистический периоды). М.: Наука, 1991. 343 с.
- Трейстер М. Ю. О хронологии некоторых погребальных комплексов из раскопок Д. В. Карейши и А. Б. Ашика 1834-1835 гг.//Поль Дюбрюкс. Собрание сочинений. СПб.: ИД «Коло», 2010. Т. 1: Тексты. С. 589-601.
- Юсупов Х. Древности Узбоя. Ашхабад: Ылым, 1986. 223 с.
- Appianus. Historia Romana/Ed. P. Viereck, A. G. Roos; cor. E. Gabba. Leipzig: B. G. Tevbneri, 1962. Bd. 1. 545 S.
- Barag D. Some Examples of Lead Currency from the Hellenistic Period//Studies in Honor of Leo Mildenberg. Numismatics, Art History and Archaeology. Wetteren: Editions NR, 1984. P. 1-5.
- Bernard P. Fouilles d'Aï Khanoum, 1. Campagnes 1965, 1966, 1967, 1968. Paris: Klincksieck, 1973. 246 p.
- Camp J. M. The Athenian Agora: excavations in the heart of classical Athens. London: Thames and Hudson, 1986. 231 p.
- Choremis A. Metallic Armour from Tomb at Prodromi in Phesprotia//Athens Annals of Archaeology. 1980. Vol. 13. P. 3-18.
- Debevoise N. C. A Political History of Parthia. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1969. 303 p.
- Diakonoff I. M., Livschits V. A. Parthian Economic Documents from Nisa. London: Lund Humphries, 2001. Vol. 2. 80 p.
- Dintsis P. Hellenistische Helme. Roma: Bretschneider, 1986. Bd. 1. 394 S.
- Engels D. A New Frataraka Chronology//Latomus. 2013. T. 72. P. 28-80.
- Houghton A., Lorber C. Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. New York; London: American Numismatic Society, 2002. Vol. 1. Pt. 1. 488 p.
- Houghton A., Lorber C., Hoover O. Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue. New York; London: American Numismatic Society, 2008. Vol. 1. Pt. 2. 714 p.
- Klose D. O. A., Müseler W. Statthalter, Rebellen, Könige: die Münzen aus Persepolis von Alexander dem Großen zu den Sasaniden. München: Staatl. Münzsammlung, 2008. 90 S.
- Kopcke G. Golddekorierte attische Schwarzfirniskeramik des vierten Jahrhunderts v.Chr.//Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. 1964. Bd. 79. S. 22-84.
- Kroll J. H. Some Athenian Armor Tokens//Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens. 1977. Vol. 46. P. 141-146.
- Lippolis C. Nisa-Mithradatkert: l'edificio a nord della Sala Rotonda. Rapporto preliminare delle campagne di scavo 2002-2003//Parthica. 2004. 6. P. 161-177.
- Lippolis C. Notes on the Iranian Traditions in the Architecture of Parthian Nisa//Electrum. 2009. Vol. 15. P. 53-70.
- Lippolis C. The «Dark Age» of Old Nisa: Late Parthian Levels in Mihrdatkirt//Труды Государственного Эрмитажа. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2013. Т. 52. P. 70-87.
- Ma J. Antiochos III and the cities of Western Asia Minor. Oxford: Clarendon Press, 1999. 403 p.
- Pliny. Natural History/Ed. H. Rackham. London; Cambridge: Harvard Univ. Press, 1989. Vol. 2. 664 p.
- Polybius. Historiae/Ed. L. Dindorf; retract. T. Büttner-Wobst. Leipzig: B. G. Tevbneri, 1889. Vol. 2. 456 p.
- Polybius. Historiae/Ed. L. Dindorf; retract. T. Büttner-Wobst. Leipzig: B. G. Tevbneri, 1893. Bd. 3. 430 S.
- Potts D. T. The archaeology of Elam: formation and transformation of an ancient Iranian state. Cambridge: Univ. Press, 1999. 490 p.
- Rakatsanis D., Otto B. Das Grab von Prodromi//Antike Welt. 1980. J. 11. Hft. 4. S. 55-57.
- Rotroff S. I. Hellenistic pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. (The Athenian Agora, 29). Princeton, 1997. 574 p.
- Rougemont G. Inscriptions grecques d'Iran et d'Asie centrale (Corpus Inscriptionum Iranicarum). London: School of Oriental and African Studies, 2012. 326 p.
- Schlumberger D., Le Berre M., Fussman G. Surkh Kotal en Bactriane, 1. Les temples. Architecture, sculpture, inscriptions. (Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan. Vol. 25). Paris, 1983. 160 p.
- Schmidt E. F. Persepolis. Chicago: Univ. Press, 1953. Vol. 1. 297 p.
- Schmitt H. H. Untersuchungen zur Geschichte Antiochos' des Grossen und seiner Zeit. Wiesbaden: F. Steiner Verlag, 1964. 320 S.
- Strabo. Geographica/Hrsg. A. Meineke. Leipzig: B. G. Tevbneri, 1877. Bd. 2. 416 S.