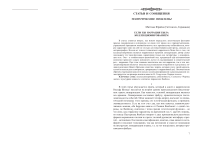Если бы наррация была коллекционированием
Автор: Фрайзе Маттиас
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Статьи и сообщения. Теоретические проблемы
Статья в выпуске: 3 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос, как можно определить эстетическую функцию приема линеаризации в литературе, не сводя этот прием ни к парадигматизации, управляемой принципом эквивалентности, ни к производству событийности, которое характерно само по себе не столько для повествовательной прозы, сколько для историографии. Исходя из тезиса голландского нарратолога Мике Бал о том, что коллекционирование является нарративным приемом линеаризации, автор статьи показывает, что такая функция, характерная только для литературы, у линеаризации есть. Она - в семантизации временной оси, придающей еще асемантичным моментам прошлого новую значимость путем их выстраивания в семантический ряд - наррацию. При этом главным двигателем как для наррации, так и для коллекционирования является попытка восстановления потерянного в результате индивидуализации Нового Времени единства с миром, которая в силу своей нереализуемости вынуждена повторяться, превращаясь в нарративный ряд. Понятая таким образом структурная аналогия между коллекционированием и рассказыванием иллюстрируется на примере анализа повести В. Солоухина «Черные доски».
Коллекционирование, событийность, солоухин, "черные доски", культурная ценность, синтагма, парадигма, якобсон
Короткий адрес: https://sciup.org/14914405
IDR: 14914405
Текст научной статьи Если бы наррация была коллекционированием
I
В этой статье обсуждается прием, который в книге о нарратологии Вольфа Шмида1 находится на втором уровне происхождения повествования: прием линеаризации. Как известно, основой линеаризации является ось времени. Линеаризация составляет фабулу, хронологическую последовательность событий. Меня занимает теперь вопрос, восходит ли семантический потенциал этого приема, его эстетическая функция, к принципу эквивалентности. Есть на этот счет два, как мне кажется, взаимоисключающих мнения, оба берущие начало от Романа Якобсона2: с одной стороны, по Якобсону, синтагма с точки зрения эстетической функции - не что иное, как отражение парадигмы на временной оси. С другой стороны, по поводу Пастернака Якобсон говорит о двух принципиально различных формах выражения в поэзии и в прозе: поэзией руководит метафора, а прозой - метонимия. Последняя классификация, конечно, сама является метафорой и подлежит толкованию, так как метонимия в узком ее понимании не инструмент линеаризации в прозе, те. не тот инструмент, которым производится фабула.
По Якобсону, метонимическая проза Пастернака преобразует «временной и пространственный порядок». Метонимия здесь, в отличие от построения фабулы, выполняет функцию перестановки вопреки «естественному» порядку, те. функцию построения сюжета. С ее помощью образуются новые семантические связки между элементами нарратива, что можно было бы истолковать как особенный случай парадигматизации, так как эти связки работают по принципу эквиваленции. Поэзия, таким образом, была бы первичной, проза - вторичной парадигматизацией. Это значило бы, что в чистой фабуле, в линеаризации, нет эстетической функции, что ее конструкция не является никаким приемом, а, следовательно, и никаким нарративным уровнем.
Не довольствуясь этим заключением, я убежден, что и у линеаризации должна быть своя эстетическая функция, которая производится только из чистой синтагмы. Прием линеаризации обычно относят к повествовательной прозе, но это не совсем точно. Прототипами жанра, основу которого формирует прием линеаризации, являются историография и биография, житие и хроника. Для повествовательной прозы более существенным, чем линеаризация, служит уровень перестановки и перспективизации.
Эстетической функцией линеаризации является производство событийности. Событийность же представляет собой конструкцию, она не существует «сама по себе», без установки на результат, ее нет без ощущения релевантности в человеческом мире и без представления о разнице между воображаемым и реальным. Она, в первую очередь, играет роль в конструкции действительности, и поэтому не является в узком смысле «литературной», она даже противоположна термину фиктивности - ведь фиктивному в строгом смысле этого слова не приписывается ни результативность, ни реальность, ни релевантность. Поэтому, если считать событийность ключевым признаком нарративности, наррация будет вовсе не литературным приемом, а приемом обхождения субъекта с действительностью. Событийность здесь является результатом семантизации самой действительности, результатом осмысления связи реальных объектов в течении времени. Но где же тогда элементарный для литературной нарративности прием линеаризации, продуцирующий событийность, который обладал бы в равной степени эстетической функцией, как и парадигматизация, но не отождествлялся бы с ней?
Голландский нарратолог Мике Бал, возможно, нашла такой прием с эстетической функцией - коллекционирование3. Она называет коллекционирование нарративным приемом линеаризации, и это отвечает главному критерию художественности. Коллекционируемые вещи вырываются из своего прагматического контекста и попадают в новую семантику - в коллекцию.
Но чем коллекционирование отличается от производства парадигмы? Не является ли коллекция чистейшим образцом парадигмы? Такому утверждению противоречат два аспекта. Во-первых, коллекция порождает для коллекционера историю приобретения элементов, искусственную, новую историю. Во-вторых, существует и еще одна история, содержащаяся в самих вещах - история времени, к которому они относятся, история, которую коллекция имплицитно рассказывает уже самим присутствием вещей. Правда, эта история доступна только знатоку. Дилетант умеет лишь видеть какие-то сходства, но из них для него не формируется история.
Мике Бал характеризует коллекционирование как накопление объектов, психологическую основу которого можно наблюдать уже в раннем детстве. Опираясь на теорию объектных отношений английского детского психолога Мелани Кляйн, Бал трактует коллекционирование как реакцию на разделение человека и его среды на субъект и объект. Это разделение порождается стремлением к власти над окружающим миром. Его результатом является индивидуализм, а его духовной ценой - одиночество субъекта, для которого слияние со своей средой делается более невозможным. В качестве компенсирующего действия как раз и выступает коллекционирование. Таким образом, коллекционирование - это сопутствующее явление индивидуализма Нового Времени. И действительно, первых коллекционеров мы находим в эпоху раннего итальянского Возрождения, в среде близких Франческо Петрарке гуманистов, собиравших предметы и тексты античности.
Мике Бал называет основную установку коллекционера фетишистской. Его вожделение направлено на вещи, призванные компенсировать ему существенный недостаток - отсутствие единства с Другим.
(Этот недостаток Мике Бал понимает по Фрейду как «присутствующее отсутствие» мужского члена, которое является для нее основой приемов метафоры и метонимии, но такая трактовка кажется мне слишком ограниченным психологизмом.)
Поскольку приобретение материального объекта никогда не сможет компенсировать недостаток, оно повторяется снова и снова. Приобретение желаемого объекта становится собиранием. Это приводит нас к следующему заключению: если наррация, как и коллекционирование, оба понимаемые как конструкция фабулы, являются результатом не-единства с миром, если их незавершаемое продолжение мотивировано повторением из-за не-удовлетворяемого желания, тогда это желание как бы стягивает парадигму объектов на синтагматическую ось.
Таким образом, первичное желание собирания и происхождение фабулы наррации, те. происхождение нарративной синтагматизации, имеют ту же самую основу. Ведь искусственно составленная цепочка символов или событий, которую мы называем нарративом, не соответствует обычному переживанию времени, при котором события разворачиваются на наших глазах. Напротив, с помощью этой цепочки время как бы заново обретается, ре-конструируется, ре-коллекционируется, как это выражено в английском глаголе recollect («вспоминать»). Реконструктивное воспоминание, по Марселю Прусту mcmoirc volontaire, в отличие от невольного воспоминания, mcmoirc involontaire, является коллекционированием. Коллекционирование обращено к прошлому, взрослый не собирает все, что попадает ему под руки в событийном ряду его жизни, но он коллекционирует объекты прошлого, объекты истории культуры, собственной или чужой. А именно это осуществляется и в событийном ряду литературного нарратива. Хотя он при чтении «течет» вперед, на самом деле направлен назад по временной оси. Таким путем объекты, независимо от парадиг-матизации, от эквивалентностей, от метонимической перестановки, становятся семантичными. Семантизация временной оси, те. воспоминание, идет назад.
Наррация, сотворяющая фабульную линию, является языковым вариантом коллекционирования объектов с целью семантизации оси времени, с целью неосуществимого элементарного воссоединения с прошлым.
II
Одно из самых откровенных признаний в собственной страсти к коллекционированию в русской литературе можно найти у Владимира Солоухина. В книге «Черные доски», перед рассказом о приобретении древних икон, он вспоминает свою коллекционерскую страсть в детстве. И тут мы находим литературную метафорику коллекционирования:
«Я нашел просторную картонную коробку, выстелил ее дно ватой и в левом верхнем углу, в том углу, с которого мы начинаем исписывать чистый лист бумаги, положил крохотное бурое яичко. Это была моя буква “А”. Белая пустая страница требовала продолжения. Я начал думать, как бы мне достать яйцо скворца.
Свой трофей я разглядывал и теперь, ночью, при трепетании быстро сгорающих спичек, но как следует разглядел только утром при белом свете. Яйцо оказалось чистейшего поднебесного цвета, без единой крапинки, без единого пятнышка, удивительно голубое, глубокого голубого цвета, произведение природы. Драгоценную добычу я положил рядом с первым, коричневым яичком, и, таким образом, было сказано мое “Б”»4.
Получается ряд объектов, получается текст. Но это детское занятие сам рассказчик впоследствии называет нелепым, пустым. Настоящее коллекционирование открылось ему как взрослому, когда он понял ценность древних икон. Отметим пока следующую аналогию: как детское коллекционирование, так и своя ранняя литературная деятельность до открытия духовной ценности, кроющейся в иконах, рассказчику-писателю кажется пустой и нелепой.
Разница, или, лучше сказать, противоположность (ведь сплошная разница асемантична) между собиранием яиц и икон следующая: на первый взгляд основной здесь является оппозиция природа - культура. Это рассказ о том, как взрослый автор перешел из сферы природы в сферу культуры. Очень важна вторая глава, где повествуется о посвящении рассказчика художником в эту сферу, особенно сюжет первой иконы, которая тогда обнажается в присутствии рассказчика: это Николай Можайский, держащий в одной руке русский город, а в другой - меч, которым он охраняет город от разрушителей. Этот образ выражает именно ту роль, которую впоследствии выбирает себе рассказчик. Собиранием икон он хочет охранить Русь, ее память, ее историю, ее культуру. Но это только одна сторона дела. Другая заключается в том, что надо отбирать иконы у людей, выпрашивать их у них, скрывая при этом их настоящую ценность.
Противоположность между собиранием яиц и икон еще и в неповто-ряемости: иконы, как подчеркивает рассказчик - уникальны, яйца одной породы птиц похожи друг на друга как две капли воды или, в немецком варианте этой поговорки, как два яйца. Значит, в жизни важно узнать, в чем состоят исключительные ценности, которые одни являются настоящими предметами для повествования.
Кроме того, есть и глубокое сходство между собиранием яиц и икон. Во-первых, и то, и другое имеет форму обряда посвящения - собирание яиц является посвящением в мир природы, а собирание икон - посвящением в мир культуры. Во-вторых, рассказчик, как тогда, так и теперь, прокрадывается в самое святое и интимное пространство Другого, в гнездо птиц или в верующее сердце стариков и старух, чтобы украсть у них именно это святое. Аналогия между собиранием яиц и икон подчеркивается эпизодом, когда сорока, которую мальчик находит в ее гнезде и треплет за перо на хвосте, оказывается мертвой. Под ней он находит «одно-единственное яйцо, показавшееся ледяным»5 - это предсказывает древность и уникальность икон, а кроме того и смерть многих людей, которые их оберегали после революции. Рассказчик даже подозревает, что сорока умерла из-за «химии» на колхозных полях - это эквивалент тракторов, с помощью которых, почти во всех эпизодах поиска старых икон в книге «Черные доски», были разрушены церкви.
Во вкрадчивом поведении рассказчика сказывается, кроме стремления преодолеть разрыв между человеком и средой, также и его отчужденность от этой среды. Это последнее показывает его готовность попасть в интимную среду чужих людей. Он под разными предлогами входит в избы стариков и старух. Одна старуха только что вернулась из больницы, где ей наголо остригли голову, и стыдится этого6. Рассказчик попал в очень интимную сферу женщины, которая аналогична обнаженным химическим средством иконам. Кроме того, при помощи яиц и икон рассказчик ищет свои истоки: яйца символизируют здесь его биологическое, а иконы - его культурное происхождение.
Значит, позиция коллекционера, т.е. рассказчика, двусмысленна. С одной стороны, он страстный любитель и спаситель старых икон, с другой стороны - он «обнажает» их и крадет. Нас здесь, однако, интересует не психологическое суждение о герое-рассказчике, а культурная значимость импульса к собиранию, потому что именно он придает приему линеаризации его семантическую силу.
Подведем итоги. Если у фабулы нарратива есть эстетическая функция, она скрывается в стремлении к потерянному единству с миром после индивидуализации. В этом отношении фабула нарративного текста и коллекционирование - тождественны. Поскольку это единство с миром невозвратимо, попытка осуществить его повторяется, и в фабуле появляется принцип повтора, временная ось превращается в ряд.
Сходство между нарративом (фабулой) и коллекционированием иллюстрирует творчество Владимира Солоухина, особенно его повесть «Черные доски. Записки начинающего коллекционера» (1969). В ней можно наблюдать:
-
1. основную аналогию между повествующей прозой и коллекционированием;
-
2. моральную амбивалентность коллекционирования;
-
3. противоположность между «наивным» детским коллекционированием в сфере природы и вдохновенным коллекционированием рассказчика, обладающего пониманием ценностей культуры.
В отличие от других герой Солоухина знает идейную ценность объектов, и этим его опережением начинается коллекция. По Мике Бал, у коллекционирования нет начала, коллекционер якобы только через некоторое время осознает, что он собирает. На самом деле это не так. Начало коллекции - познание или представление о ценности, которая другим не доступна, ценности эстетической или исторической.
Ценность объектов сначала известна лишь самому собирателю, но со временем разделяется другими. Собирание, таким образом, - прием, придающий ценность изначально не имеющим ее предметам, вначале сам собиратель им эту ценность приписывает. Время наибольшей удачи для коллекционера - это то время, в которое никто кроме него не собирает «его» предметы, а, следовательно, и не ценит их. Огромной удачей для коллекционеров была дискредитация модерна как вырожденческого искусства, когда можно было втайне ценить официально обесцененные вещи. Но однажды придет момент, когда коллекционеру придется сложить руки, будучи более не в состоянии продолжать. Тогда появляются богатые коллекционеры, которых уже не занимает история, заключающаяся в объектах. Они лишь меняют реальный капитал на символический. В этом они похожи на авторов, ориентирующихся на спрос сюжетов, в отличие от авторов, открывающих новый путь семантизации истории.

Список литературы Если бы наррация была коллекционированием
- Шмид В. Нарратология. Изд. 2-е, исправл. и дополн. М., 2008
- Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Пастернака//Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 324-338
- Bal M. Telling Objects: А Nаrrаtive Perspective on Collecting//The Cultures of Collecting/John Elsner, Roger Cаrnivаl (ed.). London, 1994. P. 97-115
- Солоухин В. Черные доски (Записки начинающего коллекционера)//Солоухин В. Зимний день: Рассказы. М., 1969. С. 128-129