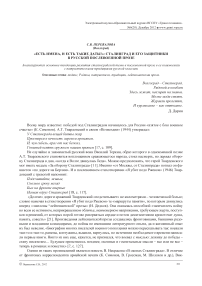«Есть имена, и есть такие даты!»: Сталинград и его защитники в русской послевоенной прозе
Автор: Перевалова Светлана Валентиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируются основные тенденции развития сталинградской темы в послевоенной прозе в ее взаимосвязи с патриотическими традициями русской классики
Подвиг, родина, патриотизм, традиции, лейтенантская проза
Короткий адрес: https://sciup.org/14821823
IDR: 14821823
Текст научной статьи «Есть имена, и есть такие даты!»: Сталинград и его защитники в русской послевоенной прозе
Д. Дарин
Всему миру известно: победой под Сталинградом начиналось для России «взятое с бою военное счастье» (К. Симонов). А.Т. Твардовский в своем «Возмездии» (1944) утверждал:
У Сталинграда вещей битвы жар
Простерся в вечность заревом кровавым.
И, чуя гибель, враг от нас бежал,
Гонимый вспять оружьем нашим правым [17, с. 109].
Не случайно и знаменитый русский воин Василий Теркин, образ которого в одноименной поэме А.Т. Твардовского становится воплощением сражающегося народа, стоял насмерть, но держал оборону Сталинграда в дни, «когда к Волге двинулась беда». Можно предположить, что герой Твардовского мог иметь медаль «За оборону Сталинграда» [11]. Именно «от Москвы, от Сталинграда» погнал он фашистов «по дороге на Берлин». И в послевоенном стихотворении «Я убит подо Ржевом» (1946) Твардовский с тревогой напомнит:
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград [18, с. 117].
«Долгие» дороги сражений Твардовский «подсчитывает» не километрами – человеческой болью; словно намечая в стихотворении «Я убит подо Ржевом» те «маршруты памяти», по которым двинулись вперед «эшелоны “лейтенантской” прозы» (И. Дедков). Она оказалась способной «запечатлеть войну во всем ее истинном, неприкрашенном обличье, неимоверном напряжении, требующем жертв, поступков и решений, от которых порой готово разорваться сердце и потом десятилетиями кровоточат душа, память, совесть» [21]. Произведения лейтенантской прозы создавались фронтовиками, бывшими рядовыми и младшими командирами, до войны не имевшими литературного опыта, да и жизненный опыт их был невелик. «Биографии многих писателей военного поколения можно пересказывать так: воевали там-то и там-то, ранены, контужены, выжили, вернулись, по истечении необходимого времени написали первые книги. Никто из них еще, кажется, не признался, что воевал с мыслью: доживу до победы – стану писателем… Будущее прояснилось позднее; окопные и госпитальные мысли – все или не все – теперь в романах и повестях» [7, с. 127].
Одним из таких произведений является повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». В отличие от фронтовых корреспондентов армейской печати (К. Симонов, В. Гроссман, М. Шолохов и др.), Вик- тор Некрасов до войны не имел литературного опыта. Архитектор по образованию, в дни Сталинградской битвы он был полковым инженером и заместителем командира саперного батальона. В 1946 г. он написал «книгу о солдатах и их командире» (В. Некрасов), войдя в историю русской литературы в «армейских кирзачах». Его повесть – первое произведение «не о войне, а изнутри войны, рассказ не наблюдателя, а участника, находившегося на переднем крае» [16, с. 492].
Капитан Некрасов воспроизвел по памяти «кромешный ад окопного Сталинграда» – от Сарепты до Тракторного, когда единственным спасением было знать: «десятый день немцы бомбят город. Бомбят – значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт» [13, с. 83]. Цепкий взгляд архитектора-художника воссоздает незабываемые «военные пейзажи»: «черный, точно выпиленный лобзиком силуэт горящего города… Черный город и красное небо. И Волга красная. “Точно кровь”, – мелькает в голове» (Там же, с. 90–91), – на фоне которых прослеживается нелегкий путь к Сталинградской победе. В повести, написанной от первого лица, не отделяя «я» от «мы», автобиографический герой военный инженер Керженцев с «дворянско-декабристской простотой и прямотой» [3, с. 143] передает фронтовые переживания и впечатления воюющего человека: «Пулеметы нас почти сразу же укладывают <…> совершенно не могу понять, почему я цел – не ранен, не убит» [13, с. 217]. Произведение восстанавливает навсегда врезавшиеся в память детали фронтовой жизни и смерти: «Мы хороним товарищей над самой Волгой. Простые гробы из сосновых необструганных досок. Свинцовые, тяжелые тучи бегут над головой. Мокрый, противный снег забивается в воротники. Плывут льдины по Волге – осеннее сало. Темнеют три ямы. Просто как-то это все здесь, на фронте. Был вчера – сегодня нет. А завтра, может, и тебя не будет. И также глухо будет падать земля на крышку твоего гроба. А может, и гроба не будет, а занесет тебя снегом и будешь лежать, уткнувшись лицом в землю, пока война не кончится» (Там же, с. 83).
Элементы натуралистической образности, позволяющие автору передать жестокость и горечь военных будней, в стилевой системе произведения соседствуют с «лирической экспрессией, источником которой является юношеская жадность к жизни» (Н. Лейдерман). Она пробивается в воспоминаниях о доме, о родном Киеве, образ которого открывает в русской литературе тему разрушенных городов: «Милый, милый Киев!<...> Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. <…> Сворачиваю на Николаевскую <…> А дальше Оль-гинская…» (Там же, с. 17), – мысленно совершает свои путешествия молодой герой. Мирные «киевские» страницы восстанавливают в его памяти образ родного дома, где близкие люди и книги – «чьи-нибудь мемуары или “Анна Каренина”» (Там же, с. 15). Можно предположить, что эта характеристика, подтверждающая «надежность опор интеллигентного дома» (В. Кардин), возникает у Некрасова под влиянием творчества другого русского киевлянина, прозу и драматургию которого он хорошо знал и ценил. Речь идет о Булгакове: в его художественном мире обязательным признаком Дома являются книги, воссоздающие «особую атмосферу интеллектуального уюта» (Ю. Лотман), спасительную для человека «во время бурное, взрывное». Стоит отметить: Виктор Некрасов в одном из писем с фронта сетует маме: «А с книгами здесь туговато, надо было больше из Киева взять» (цит. по: [15]). Вот и память Керженцева на фронте надежно удерживает тот культурный пласт, что связывает воюющего человека с мирной жизнью, не дает забыть о ней, формируя не только желание вернуться к довоенной поре, но и чувство долга, необходимое воину – защитнику дома и Родины. Память героя хранит вечные «знания», пережившие века и сохраняющие первоосновы нравственного чувства. «Космический пейзаж» у Некрасова «подсвечивается» библейскими мотивами и образами: «Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, как глаз кошачий» [13, с. 157]. Возможно, образ Вифлеемской звезды связан с памятью о Крымской кампании: «Унижение православных святынь – постоянная черта поведения агрессоров в этой войне. Не случайно она получит также другое название – “Битва за Ясли Господни”. В этом ряду – бомбардировка английскими фрегатами 18–19 июля 1854 года Соловецкого монастыря. В этом ряду – избрание главной мишенью для нападения именно Крыма и Севастополя, который является не только военной базой России на Черном море, но и колыбелью русского пра- вославия» [9]. К тому же Крымская война неразрывно связана с судьбой Л.Н. Толстого, который, воюя под Севастополем, видел, как из несчастий России выливается «чувство пылкой любви к Отечеству» (Л.Н. Толстой). Будущий классик запомнил и воспроизвел войну «не в красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, “с развевающимися знаменами и гарцующими генералами” (Л. Толстой), а в настоящем ее выражении – в крови, страданиях и смерти» [16]. Напомним: в ночь на 11 марта 1855 г. русские солдаты и моряки флотских экипажей совершили «вылазку против французских позиций перед Малаховым курганом <…>, ликвидировав неприятельскую батарею и заклепав орудия», среди героев-севастопольцев был и «подпоручик артиллерии Л.Н. Толстой» [6, с. 82]. Не случайно Керженцеву на Мамаевом кургане вспоминаются герои Малахова кургана, а чувство, названное Толстым «скрытой теплотой патриотизма», «оказывается сильнее, чем немецкая организованность и танки с черными крестами» [13, с. 83]. В минуты затишья с долей печальной иронии в сознании героя В. Некрасова всплывает «На поле Куликовом» Блока: И вечный бой! Покой нам только снится… «Любил ли я Блока…, – размышляет Керженцев. – Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего я люблю покой» (Там же, с. 144). Можно предположить неслучайность обращения к Блоку, видевшему в Куликовской битве символ возрождения России: Сталинградская земля в военные годы тоже стала для Отечества долгожданным «полем Куликовым».
Стремясь воссоздать правду о пережитом, В. Некрасов едва ли не первым в русской литературе рассказал о противоречиях и конфликтах внутри нашей армии. Речь идет о неподготовленной, непродуманной атаке, на которую бросил бойцов майор Абросимов. Она обернулась для потрепанного батальона большими потерями: «убито двадцать шесть человек, почти половина, не считая раненых» (Там же, с. 233). Несмотря на то, что Абросимов разжалован и отстранен от должности, вопрос о праве командовать людьми, о «сбережении народа» (А. Солженицын), затронутый Некрасовым, остается и в жизни, и в последующей литературе. Критики 1950-х гг. нередко упрекали писателя в том, что он фиксирует только «взгляд из окопа», не видя ничего «дальше своего бруствера». Однако Некрасов видел главное: как день за днем, превозмогая себя, люди все-таки защищали город, – и рассказал об этом «с дневниковым чистосердечием» (В. Кардин). В его повествование входят и первые бомбежки Сталинграда, сразу превратившие мирный город во фронтовой, и полный разгром вражеской группировки, когда наконец-то «над “Баррикадами” зажигаются “фонари”. Наши “фонари”, не немецкие. Некому уже у немцев зажигать их. Да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик – молоденький, курносый, в зубах длинная изогнутая трубка с болтающейся кисточкой. Подмигивает на ходу: “Экскурсантов веду… Волгу посмотреть хотят”. И весело, заразительно смеется» (Там же, с. 248).
Героизм у Виктора Некрасова неброский, он в буднях, в тяжелом солдатском труде, в самообладании и мужестве. Тяжело переживая изгнание (В. Некрасов в 1974 г. эмигрировал во Францию и скончался в Париже в 1987 г.), писатель не погрешил против правды, вспоминая о своей фронтовой молодости: «Мы знали, кто наш враг, и знали, что он жесток и силен, и не мы, а он позарился на чужие земли» [14]. Это знание помогает выстоять и героям романа Ю. Бондарева «Горячий снег» (1969). Многое из собственного опыта писатель передает лейтенанту Кузнецову: когда началась война, Ю.В. Бондареву было чуть больше семнадцати, а в восемнадцать он уже не за школьной партой, а в «мерзлых окопах жестокой и грубой школы войны». Ее «первый класс», где прошел боевое крещение будущий прозаик, – под Сталинградом зимой 1942 г. Воспоминания о тех страшных днях составляют основу мировидения молодых героев романа. «У фронтовых впечатлений, как у осколков мин и снарядов, – раскаленные, режущие края!... ворвавшись в сознание бойца или офицера, особенно молодого, они непременно создадут впоследствии особый вид памяти, активную память-ответственность» [22, с. 36]. Она не позволяет художнику фальшивить, а диктует писать правду о событиях той тревожной зимы, когда в заволжских степях шли бои против танковых дивизий Манштейна, спешивших на выручку Паулюсу. «Манштейн, сколотив сильную танковую группировку (до 300 танков), 19 декабря 1942 года переходит в наступление на узком участке фронта. На реке Мышкова противник был оста- новлен 51-й и 2-й гвардейскими армиями. Переодолеть 40 километров ему не удалось. План фашистского командования по деблокаде армии Паулюса был сорван» [20, с. 20]. На реке Мышкова, воюя в составе 2-й Гвардейской армии, получил свое боевое крещение будущий писатель Юрий Бондарев. В романе «Горячий снег» через восприятие своих героев, юных лейтенантов, он передал хронику одного сражения и переживания его участников: «немецкие танки, как разбуженные облавой звери, злобно огрызались». В «Горячем снеге» им противостоит артиллерийская батарея Дроздовского – люди, одерживающие победу не только над врагом, но и над собственными сомнениями, колебаниями и страхом. Эти переживания, связанные с личным опытом участника войны, эмоционально окрашивают все произведения лейтенантской прозы, создавая в читательском сознании эффект сопричастности воссоздаваемым событиям. Так, в рассказе В. Тендрякова «День, вытеснивший жизнь» автобиографический герой – сержант Тенков, «окончивший школу за полтора часа до начала войны», передает ошеломляющие впечатления от боев во время трагического отступления наших войск к Сталинграду летом 1942 г. На «израненном поле», где «налившиеся колосья прижимались по-солдатски к земле», в дни, когда «фашисты вышли к Дону», Тенков, «маменькин сынок, лоботряс и белоручка», оказывается под бомбежкой. «Из дальнего угла безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали зенитки – ближе, ближе, все яростней, все осатанелей, пятная синеву быстро отцветающими одуванчиками… Самолеты двигались прямо на меня медлительно, уверенно, упрямо, не обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг… Прямо на меня! Ошибки быть не могло… Я сорвался с дороги, дальше, дальше в сторону, но некуда спрятаться – плоская земля доверчиво распахнута враждебному небу… Одна тень, другая скользнула по мне. Я ждал – мир разрушен, верил – увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я по-сыновьему прикрывал своим телом» [19, с. 58–59].
Произведения лейтенантской прозы неразрывно связаны с биографией самих писателей. Сильнейшее эмоциональное потрясение, переживаемое литературными героями, на себе испытали в юности все художники фронтового поколения. Не случайно сходство мироощущения лирического Я Семена Гудзенко, переданного в стихотворении 1941 г. – Мне кажется, что я магнит, / Что я притягиваю мины. / Ну вот. И лейтенант убит, / А смерть опять проходит мимо – и героя рассказа В. Тендрякова, опубликованного только после ухода автора из жизни. Лишь чувство Родины, спасенной и спасающей, ускоряет у художников процесс «рождения солдата»: «Победа или смерть, да, были нашей романтикой, но теперь это трагическая необходимость. Велика страна, а отступать некуда» [20, с. 73], – прозвучит в рассказе Тендрякова. Эти слова можно с полным правом отнести и к «юности командиров» Ю. Бондарева. Впервые попав под обстрел, лейтенант Кузнецов не сразу приходит в себя: «Сейчас это кончится, – внушал себе Кузнецов, ощущая хруст земли на зубах, закрыв глаза… Но орудия… Как же орудия? Он знал, что нужно немедленно подняться…» [4, с. 133]. И они поднимались, хоть это было невообразимо трудно. Вчерашний выпускник артиллерийского училища, москвич, «мимоза, интелли-гентик», в эти мгновения, разом оборвавшие мальчишество, Кузнецов становится мужчиной, командиром, от которого зависит исход боя.
Важно, что это сражение на Котельниковском направлении вписано Бондаревым в контекст всей Сталинградской битвы. Герои романа «не знали, а только догадывались, что Сталинград оставался где-то за спиной, в тылу», но знали, что их судьбы накрепко связали их с судьбой «истерзанного четырехмесячной битвой Сталинграда» (Ю. Бондарев). Взгляд «из окопа» в «Горячем снеге» Бондарева соотносится с «тем, что делается в масштабах фронта и всей войны» (Е. Горбунова). Об этом свидетельствуют и слова генерала Бессонова, обращенные к солдатам своей армии: «Запомните… немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России» (Там же, с. 26). Позже, после боя, вручая четверым уцелевшим от батареи ордена Боевого Красного Знамени, генерал Бессонов, хорошо знающий, что «за все на войне надо платить кровью – за неуспех и за успех, ибо другой платы нет», словно впервые понял, кому говорил эти высокие слова о чести России. Он всматривался в «грубые, сизо-красные лица артиллеристов», в лицо командира их огнево- го взвода, «этого мальчика, в тоне, во взгляде которого – немальчишеская серьезность, без тени робости перед генералом». Это замечание отсылает внимание читателей к «Севастопольским рассказам» Л.Н. Толстого, писавшего о «спокойной силе души», составляющей главную «силу русского» солдата. У Бондарева Бессонов не говорит высоких слов, его командный голос не может «набрать бесстрастную и ровную крепость», одно только «насилу выдавил» взволнованный бесстрашием подчиненных генерал: «Спасибо за подбитые танки. Это было главное – выбить у них танки. Это было главное…» [4, с. 338]. Мысль о цене этого «главного» придает сильнейшее антивоенное звучание роману, известному во всем мире. Автор его – тоже один из «чудом выживших» мальчиков 1922–1923 годов рождения: с войны их вернулось около трех процентов. Бондарев так и не смог «вернуться с войны»: она жила и живет в его памяти.
Время затянуло многие раны, но оно не имеет власти над величием былого. Сколько бы лет ни прошло, а «Сталинград – это недавно» (К. Симонов). В современных читателях это представление поддерживает роман М. Алексеева «Мой Сталинград». Будущий писатель после окончания педагогического техникума был призван в армию, прошел пять фронтов и путь от рядового солдата до подполковника. Предваряя произведение, М. Алексеев, встретивший Сталинградскую битву младшим политруком минометной роты, так объясняет название: «Каждый из нас, кто был там, мог бы сказать: Сталинград – это моя судьба. И из слагаемого миллионов судеб зримо предстанет судьба победителей и побежденных, судьба живых и мертвых, больше мертвых, чем живых» [1, с. 124]. Отчетливо выраженное в романе автобиографическое начало, сводящее к минимуму художественный вымысел, объясняется именно принадлежностью прозаика к поколению фронтовиков, которое «само все видело, чувствовало, знало, ненавидело и боролось» (Ю. Бондарев). У М. Алексеева среди увиденного в те суровые годы и не «съеденного ржавчиной времени» (Д. Гранин) – подлинные номера подразделений и полков, «реальные персонажи со своими фамилиями, характерами, судьбами» [5, с. 4], невымышленные топографические обозначения. Сам писатель объясняет это так: «По наивности в годы войны я как-то не очень ответственно отнесся к тому, что на передовой нельзя вести никаких дневников, командиру особенно. Это категорически запрещалось, потому что они могли попасть в руки врага. И вот моя тетрадь сохранилась. У меня даже вышла небольшая книжечка – “Тетрадь, начатая под Сталинградом”» [2, с. 96].
Эти фронтовые записи помогли сохранить документированную основу повествования в «Моем Сталинграде»: «К месту сосредоточения, к хутору Генераловскому, вышли к полудню и там “считать мы стали раны, товарищей считать”. И многих, даже очень многих не досчитались <…> Двое суток Елхи (а точнее, печные трубы, оставшиеся от хутора) удерживались немцами; на пятые сутки взяли их мы <…> Станция Абганерово, где наша дивизия в течение двух недель вела, может быть, самые кровавые в ее биографии бои с прорвавшимся от Котельниково врагом <…> А вот и скромный одноэтажный, но очень вместительный домик» в Бекетовке, где располагался Военный совет 64-й Армии: там шел допрос «фельдмаршала Паулюса, командующего 6-й немецко-фашистской армии» [1, с. 17, 126, 243, 232]; и, конечно, Волга – Волга, «которую русский человек называет не иначе как с присовокуплением слова “матушка”, жила в нас и без лозунгов, стучалась в душу. Там, на берегах великой реки, виделся нам рубеж, где враг должен быть остановлен» (Там же, с. 56). Такие эмоционально-насыщенные характеристики географических названий, которые и сегодня отмечены на карте Родины, воспитывают «духовную оседлость» (Д.С. Лихачев), заставляя современных читателей романа М. Алексеева осознать: «Это и мой Сталинград!»: в какой-то мере все мы тоже / вернувшиеся с той войны (Н. Дмитриев).
Включая во вторую книгу романа главы «Тридцать лет спустя», «Сорок лет спустя», «Пятьдесят лет спустя», М. Алексеев говорит о том, что память о великой победе на Волге простирается далеко во времени, оживая в семейных преданиях, рассказах ветеранов, в книгах, песнях и кинофильмах, словно утверждая: «Сталинград – это навсегда». Писатель старается сохранить для будущих поколений саму атмосферу боевого времени, приближая к читателям те годы, когда «деятельность боевой техники характеризовалась посредством слов, вызывающих представление о слуховых впечатлениях средств поражения» [10, с. 49]. Повествование включает такие слова и выражения, как пронзительно завыли мины, сыпалась стрельба, грохотали орудия, воспроизводя ту обстановку, в которой воюют герои. Автор вместе с ними непрестанно вслушивается в эти тревожные звуки, угадывая за ними человеческие судьбы.
В своем «невыдуманном романе» (М. Алексеев) прозаик не раз с горечью вспомнит об искореженном войной лике родной земли. Родившийся в большой крестьянской семье, немало рассказавший о жизни деревни (в довоенный и военный период – в романе «Вишневый омут» (1961); в первые послевоенные годы – в повести «Хлеб – имя существительное» (1963); и в романе «Ивушка неплакучая» (1974)), в «Моем Сталинграде» М. Алексеев «страстью души и кровью сердца» (С. Борзунов) написал о «раскаленной, окаменевшей земле», о «каменно-желтой земле», «выжженной, полынно-горькой и солоноватой от крови земле». Эта ставшая родной земля в те страшные годы молила о спасении и помогала «защитникам Отечества <…> собраться с новыми силами и выйти опять на рубеж кровавого единоборства. И победить в этом единоборстве. Ну, а какой ценой? Но кто же думает о цене в таком случае» [1, с. 99].
В единый сюжет вплетены у Алексеева и картины трагических боев («черное, выжженное “катюшами” и немецкими шестистволками поле было сплошь усеяно телами. И не разобрать – чьих было больше – наших или немецких» (Там же, с. 35)), и фронтовые будни, подсвеченные искорками юмора. Это естественно: «юмор присущ русской душе как вечно неизбывное влечение, как неиссякаемый источник жизни и искусства – будь то радости современного бытия, величайшая нужда, тюрьма или окопы» [8, с. 180]. М. Алексеев по памяти воссоздает сцену: «А из Сталинграда все эти дни бесконечной вереницей медленно движутся в сторону Бекетовки колонны военнопленных немцев. Солдаты идут, обмотанные тряпьем, на ногах что-то навернуто, они идут понуро, жалкие, грязные, перезябшие… На пленных смотрит сталинградская старуха. Ей лет семьдесят. Все лицо исполосовано морщинами <…>, время от времени старуха замечает, да так, чтобы ее слышали в колонне: “Ну да Бог им судья! Пущай уж живут, коли сдалися. Но што они, сынок, тут творили! Что творили!.. Не приведи, Господи!.. Вот бы их такими самому Хитлеру показать… нечистая он сила, до какого сраму людей своих довел!.. А вон, глянь на того, сопливого, штаны поддерживает несчастный… Пуговица, знать, оторвалась. Господи, Господи, мать небось у него есть где-то, ждет…”. Колонне не видать конца. Она движется, движется, извиваясь меж развалин, как огромная пестрая змея. Сталинградская старуха продолжает: “Сам, сказывают, Паулюс сдался в плен-то. Так, что ли, сынок?” – спрашивает она теперь уже у меня. На вопрос старой отвечаю утвердительно и сообщаю еще, что только вчера Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала. Старуха минуту думает, потом решительно заключает: “Должно, тоже для поддержки штанов…”» [1, с. 234–235]. В этом замечании – неискоренимый моральный принцип народа и вековечная традиция русской гуманистической литературы: еще в Древней Руси «воинские повести в основном были посвящены обороне и милосердию в войне» [12, с. 601]. «Мой Сталинград» не только вписывает имя М. Алексеева в «воинскую» традицию русской патриотической литературы. «Глубина биографического отпечатка» (Б. Пастернак) ведет художника от личных воспоминаний к раскрытию психологии становящегося, мужающего воина, душу которого питают идеалы народной жизни, от описания событий – к их анализу в неразрывной связи с потоком времени, в котором живут автобиографический герой, его рота и вся страна, к философским обобщениям и выводам: «В Сталинградском побоище участвовали миллионы солдат. И в судьбе каждого взятого отдельно, Сталинград 42-го и 43-го отразился по-своему. Он, этот отдельно взятый, мог быть участником великой битвы всего лишь один час или даже одну минуту, но этот час и эта минута стоили целой жизни, потому что из Сталинградского сражения выйти живым – это почти противоестественно, погибнуть в нем – это в порядке вещей, это почти неизбежно» [1, с. 7]. М. Алексееву удалось запечатлеть высоту духа живых и павших, но не отступивших за Волгу. Кинорежиссер Г. Чухрай, поставивший бессмертную «Балладу о солдате», воевавший рядом с Алексеевым – в большой излучине Дона, как-то сказал: «Теперь умники говорят: еще бы вы не стояли насмерть: сзади у вас были заградотряды, впереди немцы – вам некуда было деться, вот и воевали. Глупцы! На заградотряды мы даже и особого внимания не обратили; мы считали это нормальным». Знали главное: «Отступать дальше – значит загубить наш народ, загубить Родину» [23, с. 84–85]. Пусть помолчат «умники»! Память пылающих лет и сегодня жива в сердцах благодарных потомков. Ратный подвиг Сталинграда не позволяет смешивать доброе и злое, подвиг и подлость и в жизни, и в русской литературе нового тысячелетия.
Список литературы «Есть имена, и есть такие даты!»: Сталинград и его защитники в русской послевоенной прозе
- Алексеев М. Мой Сталинград: роман. М.: Дружба народов, 2000.
- Алексеев М. Нельзя поправлять историю//Книги не молчат: из публицистики 80-х. М.: Современник, 1989.
- Берзер А. О Викторе Некрасове//Дружба народов. 1989. №5.
- Бондарев Ю. Горячий снег//Горячий снег: Роман. Рассказы. М.: Современный писатель, 1994.
- Борзунов С. Зов памяти. Послесловие к изданию: Михаил Алексеев. Мой Сталинград//Роман-газета. 1993. №1.
- Голикова Л. «…Каждый рядовой -Шевченко, каждый офицер -Брилев»//Родина. 1995. №3-4.
- Дедков И. Живое лицо времени: очерки прозы семидесятых-восьмидесятых. М.: Сов. писатель, 1986.
- Ильин И. Сущность и своеобразие русской культуры//Москва. 1996. №1.
- Казарин В. «Битва за ясли Господни»: чем на самом деле закончилась Крымская война//Лит. газ. 2005. 2-8 февр.
- Кожин А.Н. Новые явления в русском языке периода Великой Отечественной войны//Вопр. языкознания. 1985. №6.
- Ксенофонтов И. От Карелии до Берлина: боевой путь гвардии младшего лейтенанта Василия Теркина//Лит. газ. 2010. 16-22 июня.
- Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения: из записных книжек разных лет. Л.: Сов. писатель, 1989.
- Некрасов В. В окопах Сталинграда: повесть, рассказы. М.: Правда, 1989.
- Некрасов В. Трагедия моего поколения//Лит. газ. 1990. 12 сент.
- Петросов В. Виктор Некрасов: письма с фронта//Лит. газ. 2003. 5-11 февр.
- Русские писатели 20 века: биографический словарь/гл. ред. и сост. П.А. Николаев. М.: Больш. Рос. энцикл.; Рандеву, 2000.
- Савина Л.Н. Реализация внутрипредметных связей в процессе изучения литературы в школе: современная проза и традиции русской классики//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2011. №8(62).
- Твардовский А.Т. Стихотворения; поэмы. М.: Худож. лит, 1989.
- Тендряков В. День, вытеснивший жизнь//Имя его известно: сборник художественных произведений советских писателей о войне. М.: Современник, 1986.
- Томарев В.И. Ради свободы Отчизны//Книга памяти: в 2 кн. Кн. 1: Сталинградцы в бою и труде: 1941-1945. Воспоминания. Документы. Фотографии. Волгоград: Комитет по печати, 1994.
- Турков А. «И это все в меня запало…»: заметки о военной литературе//Лит. газ. 1995. 9-19 мая.
- Чалмаев В. Сквозь огонь скорбей//Литература в школе. 1995. №3.
- Чухрай Г. Если дорог тебе твой дом//Родина. 1995. №9.