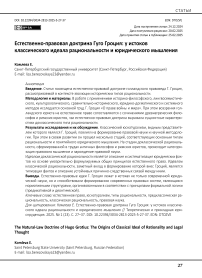Естественно-правовая доктрина Гуго Гроция: у истоков классического идеала рациональности и юридического мышления
Автор: Комлева Е.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (23), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена естественно-правовой доктрине голландского правоведа Г. Гроция, рассматриваемой в контексте эволюции исторических типов рациональности.Методология и материалы. В работе с применением историко-философского, лингвосемиотического, культурологического, сравнительно-исторического, юридико-догматического и системного методов исследуется основной труд Г. Гроция «О праве войны и мира». При этом воззрения голландского юриста на естественное право сопоставляются с сочинениями древнегреческих философов и римских юристов, чья естественно-правовая доктрина выражала сущностные характеристики доклассического типа рациональности.Результаты исследования и их обсуждение. Классический юснатурализм, видным представителем которого являлся Г. Гроций, повлиял на формирование правовой науки и научной методологии. При этом в своем развитии он прошел несколько стадий, соответствующих основным типам рациональности и понятийного юридического мышления. На стадии доклассической рациональности, сформированной в трудах античных философов и римских юристов, происходит категоризация правового мышления и зарождение правовой науки.Идеалом доклассической рациональности является описание и систематизация юридических фактов на основе умозрительно формулируемых общих принципов естественного права. Идеалом классической рациональности, заметный вклад в формирование которой внес Гроций, является типизация фактов и описание устойчивых причинно-следственных связей между ними.
Естественное право, юснатурализм, типы рациональности, предклассическая рациональность, классическая рациональность, правовая наука
Короткий адрес: https://sciup.org/14133142
IDR: 14133142 | DOI: 10.22394/3034-2813-2025-5-27-37
Текст научной статьи Естественно-правовая доктрина Гуго Гроция: у истоков классического идеала рациональности и юридического мышления
В плеяде видных философов и ученых XVII столетия одно из центральных мест занимает фигура голландского юриста Гуго Гроция (1583–1645), чья многогранная и разноплановая деятельность «ознаменовала новый этап в западноевропейской философско-правовой мысли, связанный с систематизацией идей и взглядов о естественном праве, разработкой основ международного права и оформлением естественно-правовых взглядов в самостоятельную правовую теорию»1. Было бы, однако, ошибкой видеть в Гроции только юриста, хотя бы и юриста незаурядного, чье идейное значение ограничивается лишь разработкой правовой проблематики.
Подобно большинству своих современников, в первую очередь Р. Декарту и Г. В. Лейбницу, Г. Гроций являлся универсальным мыслителем, активно занимавшимся, помимо юриспруденции, также философией, богословием, историей, отчасти естественными науками2. Не вызывает сомнений, что тесная взаимосвязь всех перечисленных направлений творческой деятельности Г. Гроция обусловила новаторское значение его естественно-правовых идей, положивших начало новому этапу в эволюции как классического юснатурализма, так и в целом учения о естественном праве3. Вместе с тем, подобно многим своим современникам, Г. Гроций находился в напряженном интеллектуальном диалоге с античными и средневековыми авторами, оказавшими значительное влияние на его собственные воззрения.
Методология и материалы
Согласно утверждению Р. Г. Апресяна: «В понимании естественного права Гроций близок традиции, идущей от Пифагора и Аристотеля и законченным образом выразившейся у поздних стоиков и Цицерона»4. Как мы попытаемся показать далее, данная точка зрения верна лишь отчасти. Руководствуясь фундаментальными мировоззренческими предпосылками, присущими западной интеллектуальной и правовой традиции, Гроций, подобно его современникам, не мог, разумеется, обойти стороной естественно-правовые доктрины античных и средневековых авторов.
Вместе с тем его отношение к этим доктринам имеет характер скорее критический, обильные цитаты, которыми буквально усеяны «Три книги о праве войны и мира» (De jure belli ac pacis libri tres)и другие сочинения голландского правоведа, не должны, разумеется, вводить в заблуждение. Дело в том, что Г. Гроций как представитель принципиально иного типа научной рациональности и правового мышления, а именно классической рациональности, скорее отрицал, нежели разделял воззрения своих предшественников, на полемике с которыми строилось его оригинальное учение о естественном праве, что однако же не исключает идейной преемственности.
Таким образом, методология исследования предполагает применение комплекса методов, способствующих выявлению в тексте сочинения Г. Гроция как идейного ядра (философские и общенаучные представления о естественном праве, его понятия, признаки, соотношение естественного права с божественным и человеческим правом), так и тех значимых юридических выводов, которые нашли свое отражение в доктрине международного и гражданского права. С этой целью в статье используются историко-философский, лингвосемиотический, культурологический, сравнительно-исторический и юридико-догматический методы. Применение указанных методов позволит не только рассмотреть содержание основного труда Г. Гроция сквозь призму классического идеала научной рациональности, одним из наиболее ранних представителей которого являлся Гроций, но и сопоставить содержание его естественно-правовой концепции с доктринами античного и средневекового юснатурализма, в которых нашел свое проявление доклассический тип научной рациональности, исторически предшествовавший юснатурализму Г. Гроция.
Результаты исследования и их обсуждение
Для того чтобы понять значение того вклада, который внес голландский юрист в развитие учения о естественном праве Нового времени, представляется необходимым обратиться к античным истокам юснатурализма Г. Гроция. Социально-исторические, политико-правовые и духовные условия раннего Нового времени нередко сопоставляются с теми историческими условиями, под влиянием которых в IV в. до н. э. происходила глубокая трансформация классической античной цивилизации, вступившей в активное взаимодействие с Древним Востоком и в результате приобретшей всемирно-историческое значение. Классическая античность во всех своих проявлениях сформировала ряд представлений о бытии и месте в ней человека, которые на многие столетия вперед определяющим образом оказали воздействие на человеческое мышление, включая мышление юридическое5.
К числу таких представлений следует отнести и учение о естественном праве, философско-методологические основы которого были заложены в сочинениях Платона и Аристотеля6. Как отмечал в свое время А. Ф. Лосев, античный юснатурализм являлся результатом экстраполяции психологической структуры человеческой личности в ее конкретно-исторических проявлениях на универсальные законы, действию которых, по мнению древнегреческих авторов, подчиняются как Вселенная (макрокосмос), так и общество (микрокосмос). Согласно утверждению А. Ф. Лосева, «классический человек… определяется космической симметрией; а уклонения от этой симметрии только подтверждают то, что эта космическая симметрия является критерием для оценки человеческих поступков, подобно тому как она с самого начала являлась критерием и для опознания космических закономерностей»7.
Эта мировоззренческая парадигма, разумеется, не оставалась неизменной, но видоизменялась и трансформировалась с течением времени. Причем имеются достаточные основания полагать, что импульс ее эволюции придали те идеи, которые были высказаны в сочинениях Г. Гроция, не только подчеркнуто следовавшего своим античным и средневековым предшественникам, но и радикально переосмыслившего их воззрения в соответствии с идеалами рациональности Нового времени. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что творческая деятельность Г. Гроция приобретает новое значение, а ее изучение становится особенно актуальным в условиях очередной смены идеалов рациональности, а именно перехода от постклассической к постнеклассической рациональности, повлиявшего на современные естественно-правовые доктрины8.
Учитывая синкретический характер античной культуры, можно с достаточными на то основаниями утверждать, что именно естественно-правовые доктрины Аристотеля, перипатетиков, древнегреческих и римских стоиков, а также римских юристов стали прообразом науки как таковой9, стимулировав трансформацию допредикативного, ассоциативно-образного мышления, характерного для ранних стадий духовного развития человечества10, в мышление понятийное11. Исчерпывающую характеристику ассоциативно-образного мышления дал в свое время французский антрополог Л. Леви-Брюль, доказавший, что такой исторический тип мышления, в том числе и в эпистемологическом плане, оперирует не столько рациональными понятиями, сколько эмоционально окрашенными образами, связанными между собой переносными значениями, такими как метафора, метонимия, синекдоха и иные тропы, являвшимися средствами не только художественного творчества, но и познавательной деятельности12.
Дорациональное познание направлено на выявление не причинно-следственных связей, существующих между явлениями, но отношений взаимопересечения, сходства и смежности, соединяющих разнородные феномены реальности в единое целое, лишенное каких-либо внутренних пустот и лакун. По словам ученого, ассоциативно-образный менталитет «привык к такому типу причинности, который прячет от него переплетение этих причин. В то время как естественные причины составляют сцепления и комплексы, разворачивающиеся во времени и в пространстве, мистические причины, к которым поворачивается первобытный менталитет, будучи внепространственными, иногда даже вневременными, исключают саму идею этих сцеплений и комплексов. Действие этих причин может быть только непосредственным»13.
Наиболее яркое свое проявление дорациональное мышление нашло в древней мифологии, где одни и те же персонажи зачастую выполняли двойственную, амбивалентную функцию, как, например, в Древнем Египте богиня любви Хатхор имела одной из своих ипостасей богиню войны и ненависти Сехмет. Это касается не только божеств и иных сверхъестественных существ, но и любого человека, одновременно обладавшего собственной человеческой сущностью и сущностью своего первопредка-тотема. Неслучайно для первобытного ритуально-мифологического мышления перевоплощение человека в животное (зайца, оленя, волка и др.), выражающее его тотемную сущность, было вполне естественным, «нормальным» явлением14.
Не будет преувеличением утверждать, что античный юснатурализм не только стал прообразом европейской науки, но и оказал мощное влияние на правовое мышление, способствовав его категоризации и тем самым повлияв на формирование первого исторического типа рациональности, а именно рациональности доклассической15. Доклассическая рациональность имела неизбежно двойственный, переходный характер, с одной стороны, будучи генетически связанной с мифопоэтическими (то есть по сути дорациональными) представлениями о сущем, но с другой — являясь попыткой переоформить их на принципиально новой основе. Причем доклассическая рациональность отказывается от мифологических образов не в пользу обыденного здравого смысла, но в пользу претендующих на общезначимость научных (точнее, протонаучных) категорий, столь же существенно отличающихся от религиозно-мифологических верований, как и от повседневных, бытовых убеждений, формируемых здравым смыслом.
Как утверждает Н. В. Разуваев: «Доклассическая рациональность, характеризующая античную науку вообще и правовую науку в частности, обладала ярко выраженными стадиально-типологическими отличиями от классической рациональности Нового времени и тем более от современной постклассической рациональности, а потому любые их сопоставления могут делаться лишь с учетом исторического контекста»16. Характерная особенность доклассического научного дискурса, проявлявшаяся во всех сферах общественной практики, состояла в стремлении к формулированию общезначимых суждений и построению общих теорий на основе единичных фактов. Указанная черта со всей наглядностью проявила себя в таких высокоразвитых феноменах античной цивилизации, как древнегреческая философия, римская юриспруденция и римское частное право, получивших глубокое творческое переосмысление в трудах мыслителей Нового времени, в том числе Г. Гроция17.
В самом деле, уже Аристотель и его последователи-перипатетики, оказавшие огромное влияние на естественно-правовую доктрину Гроция, пытались эмпирически обосновать свои идеи, тем самым выходя за рамки умозрительной философии в плоскость общих и частных научных теорий. Однако ограниченность возможностей античной науки, а также социально-историческая специфика доклассического идеала рациональности, основанного на пропозициях, чья аксиоматичность и интуитивная достоверность презюмировались, делали невозможным развитие эмпирического научного знания, ориентированного на выявление устойчивых и закономерно повторяющихся причинно-следственных связей между фактами. Хрестоматийным примером такого подхода стало учение римских юристов о естественном праве, послужившее одним из источников идей Г. Гроция18.
Так, согласно известному определению Ульпиана, естественное право — это «то, которому природа научила все живое: ибо это право присуще не только человеческому роду, но и всем животным, которые рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относится сочетание мужчины и женщины, которое мы называем браком, сюда же порождение детей, сюда же воспитание; мы видим, что животные, даже дикие, обладают знанием этого права»19. Легко заметить отличие античного юснатурализма (и отчасти юснатурализма Г. Гроция, для которого данные воззрения послужили отправной точкой последующей интеллектуальной эволюции) от современной концепции естественных прав и свобод, под которыми понимаются основные права, присущие от рождения каждому человеку20.
Для античного юснатурализма, в полном соответствии с идеалами доклассической рациональности, естественное право представляло собой не столько совокупность субъективных прав, сколько структуру объективного права, имеющую своим истоком порядок вещей во Вселенной, а потому неотделимую от этой последней. Как следствие, человек, в наши дни выступающий в качестве единственного субъекта и носителя естественных прав, попадал в сферу действия законов ius naturale лишь постольку, поскольку он обладал родовыми характеристиками, присущими всем без исключения живым существам. Таким образом, эта родовая сущность растворяла человека в природном мире, всецело подчиненном естественному праву и естественной справедливости.
Как уже отмечалось ранее, естественно-правовое учение Г. Гроция, с одной стороны, вобрало в себя многие из рассмотренных представлений, с другой — способствовало их кардинальному переосмыслению, привнесшему в универсальные и обезличенные законы «естественного права» действие активного творческого начала, в котором нельзя не увидеть именно человека как разумное и общительное существо, обладающее даром речи и способностью к познанию21. По словам голландского юриста, естественное право «есть предписание здравого разума, коим то или иное действие, в зависимости от его соответствия или противоречия самой разумной природе, признается либо морально позорным, либо морально необходимым; а следовательно, такое действие или воспрещено, или же предписано самим Богом, создателем природы»22.
В оригинале та же мысль сформулирована следующим образом: Jus naturale est dictatum rationis, indicans actui alicui, et ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali sociali, inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturale talem aut vetare aut praecipi 23. Из приведенного определения легко видеть принципиальное отличие представлений о естественном праве, развиваемых Гроцием, от представлений Аристотеля и следовавших его мнению римских юристов, для которых, как мы помним: Ius naturale est quod natura omnium animalium docuit (D. 1. 1. 1. 3). В самом деле, для античных философов и юристов как носителей доклассической рациональности природа выступала в качестве обезличенного начала, так что говорить о ее активном участии в формировании представлений о добре и зле, справедливом и несправедливом и т. п. можно только в метафорическом смысле. Между тем принципы естественного права, в понимании Г. Гроция и других авторов эпохи Нового времени, являются установлениями человеческого разума, что, в свою очередь, выступает условием их познаваемости и, следовательно, осмысленной реализуемости в поведении людей.
Сугубо человеческий характер предписаний естественного права Гроций последовательно акцентирует, рассматривая его соотношение с установлениями божественного права, с одной стороны, и права позитивного — с другой. Важнейшая характеристика естественного права состоит в том, что оно включает в себя нормы, общезначимость и обязательность которых являются самоочевидными и не требующими дополнительного обоснования. По словам юриста, «этим признаком такое право отличается не только от человеческого права, но и от права, установленного божественной волей, так как последнее предписывает или воспрещает не то, что само по себе и по самой своей природе есть должное, но то, что не дозволено лишь в силу воспрещения и что вменено в обязанность в силу предписания»24. Вот почему принципы и нормы естественного права признаются самим Богом, ведь «подобно тому, как Бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем, так точно он не может по внутреннему смыслу ( intrinsecta ratione ) обратить в добро»25.
Обращает на себя особое внимание, что значительную роль в установлении, познании и реализации предписаний естественного права играет стремление человека к общению с себе подобными26. Иными словами, Г. Гроций видел в праве (в том числе праве естественном) прежде всего совокупность средств коммуникации, при помощи которых осуществляется передача информации о возможном, должном и запрещенном поведении27. Причем одним из признаков различия естественного права и права позитивного выступает характер правовой коммуникации, присущей соответствующему уровню структуры правового бытия. А именно если нормы естественного права имеют в основном неписаный характер, что обусловливает их универсально-всеобщий характер и одинаковую способность воздействовать на поведение всех людей, то формами позитивного права являются в основном письменные тексты, причем чем более развитым является тот или иной правопорядок, тем большее место занимают в нем эти тексты.
Этим, на наш взгляд, объясняется повышенное внимание, уделяемое юристом тем правовым системам, в которых такие тексты отличались высокой степенью совершенства (как, например, римскому частному праву, названному «писаным разумом», ratio scripta )28. Напротив, как ни парадоксально, современным ему правовым системам, в том числе голландскому праву, Г. Гроций уделяет относительно мало внимания, что, видимо, было связано с незавершенностью генезиса этих последних, делавшее их догматическое рассмотрение достаточно сложной задачей. Неслучайно значительное место в концепции Г. Гроция занимает проблема познания права, в решении которой со всей отчетливостью проявляются основные черты классического идеала рациональности, а также его отличия от рациональности доклассической29. Как известно, методология и основные эпистемологические принципы классической рациональности формировались прежде всего математикой и другими точными науками, в которых ученые XVII–XVIII вв. видели непревзойденный образец логической последовательности и достоверности ( more geometrico ) и в развитие которых они внесли заметный вклад30.
Выводы
Таким образом, конечная цель классической науки, в том числе науки о праве, состояла в формулировании общезначимых утверждений о реальности и долженствовании на основе неизменно повторяющихся причинно-следственных отношений между фактами. Иными словами, идеал классической научной рациональности состоял не в описании и систематизации фактов на основе умозрительно постулируемых общих принципов (как это делали в том числе римские юристы), но и в типизации данных фактов и установлении закономерных причинно-следственных связей между ними. Как следствие, классическая наука Нового времени отходит от чистой дедуктивности античного познания и обращается к широкому применению индуктивного метода. Именно в сочетании этих двух методов — индукции и дедукции ученые XVII–XVIII вв. усматривали необходимую предпосылку достоверности и общезначимости формулируемых выводов31.
Оба указанных метода широко применялись Г. Гроцием для доказательства существования естественного права32. По словам ученого, с этой целью могут быть использованы доказательство априори (то есть дедуктивное доказательство) и доказательство апостериори (индуктивное доказательство). «Доказательство априори, — писал Гроций, — состоит в обнаружении необходимого соответствия или несоответствия какой-нибудь вещи с разумной и общежительной природой. Доказательство же апостериори обладает не совершенной достоверностью, но лишь некоторой вероятностью и состоит в выяснении естественного права путем отыскания того, что признается таковым у всех или, по крайней мере, у всех наиболее образованных народов»33. Приходится, однако, констатировать, что намерение Г. Гроция выстроить априорное доказательство естественного права, выводимое из разумной природы человеческих существ, соответствуя идеалам классической рациональности и понятийному правовому мышлению Нового времени, оказалось во многом не реализованным в силу преимущественно эмпирического характера юридического познания.
Вместе стем историческое значение правовой доктрины Г. Гроция поистине трудно переоценить. Созданное в условиях острой полемики с католическими юристами, являвшимися представителями доклассической рациональности34, это учение проложило путь протестантскому этосу в западной традиции права, обеспечившему, в свою очередь, глубокую перестройку правовых порядков и системы государственного управления35. Одним из важных практических следствий внедрения идей, развивавшихся Г. Гроцием, стало формирование современных национальных правовых систем, имеющих нормативный характер, в отличие от правопорядков Древнего мира и Средних веков.
Нетрудно заметить, что аналогичные процессы одновременно происходили в морали, политике, языке и в других сферах культурной деятельности, модернизация которых предполагала формирование нормативных систем, регулирующих соответствующие виды мышления и деятельности. Учение Г. Гроция стало катализатором рассматриваемых процессов, что позволяет видеть в нем одного из создателей не только юриспруденции Нового времени, но и современного права, а также правовой культуры, сохраняющих идейную связь с творческим наследием голландского юриста.