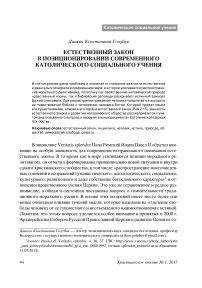Естественный закон в позиционировании современного католического социального учения
Автор: Голубев Константин
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Католическое социальное учение
Статья в выпуске: 1 (60), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемы и значение отстаивания важности естественной и евангельской морали в современном мире, в котором усиливается распространение морального релятивизма, поскольку как свойственные человеческой природе нравственные нормы, так и библейские заповеди раскрывают истинный замысел Божий о человеке. При рассмотрении поведения человека предлагается исходить из повествования Библии о сотворении человека Богом, Который придал смысл его существованию, вписав в его сердце естественный закон (Рим 2:15). Ценность естественного закона в развитии человеческого общества рассматривается с учетом анализа данного вопроса в вероучительных документах Католической Церкви XIX-XXI вв.
Естественный закон, энциклика, человек, истина, природа, общество, демократия, свобода, совесть
Короткий адрес: https://sciup.org/140190077
IDR: 140190077
Текст научной статьи Естественный закон в позиционировании современного католического социального учения
циальной концепции «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» 2 ).
Критики нравственного учения пытаются отвергать учение о естественном законе, универсальности и перманентной истинности его предписаний 3 . В свою очередь к защите роли естественного закона неоднократно обращались римские понтифики последнего времени. Так, после Папы Римского Иоанна Павла II важнейшую роль естественного закона подчеркнул Папа Римский Бенедикт XVI, отметивший, что мы живем в момент особого развития способностей человека познавать материальный мир и увеличения его власти над природой. Однако эта возможность рассмотреть законы материального мира сочетается с неспособностью рассмотреть «этическое послание, содержащееся в бытии», послание которое называют «естественным нравственным законом». Концепция природы, которая становится не метафизической, а только эмпирической формирует для человека, особенно молодого, ощущение дезориентации, представляет выбор жизненного пути нестабильным и неопределенным. Таким образом, появляется насущная необходимость свидетельствования о естественном законе и нового открытия его истинности для всех людей 4 .
На эту проблему указывают и «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»: «Недопустимо вводить в область прав человека нормы, размывающие или отменяющие как евангельскую, так и естественную мораль» 5 .
Тогда как еще до возникновения христианства в рамках человеческой цивилизации можно видеть идеи о существовании естественного закона. Интерес- но, что понимание этого вопроса Цицероном представлено и в современном Катехизисе Католической Церкви6: «Нет сомнения, что существует настоящий закон — правильный разум; он соответствует природе, присущей всем людям; он неизменим и вечен; его веления призывают к исполнению долга; его запреты отклоняют от ошибок. ‹…› Заменять его законом противоположным — кощунство; не позволительно не применять хотя бы одно единственное его положение; что до совершенной отмены его, то никто не обладает такой возможностью»7. Так, и блаж. Августин, говоря о свидетельстве существования Бога, указывает, что природа подтверждает это, ибо она сама провозглашает наличие Творца, обеспечившего нас умом и естественным разумом для понимания различий праведного и неправедного; прекрасного и безобразного; благого и злого8.
Библия говорит о сотворении человека Богом, Который в Своей мудрости и любви придал смысл его существованию, вписав в его сердце закон, т.о. «…де-ло закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их…» (Рим 2:15). Об этом говорится и в Ветхом Завете, в частности, в Книге Премудрости Иисуса, Сына Сирахова (17, 7): «Он положил око Свое на сердца их, чтобы показать им величие дел Своих, да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии дел Его». Соответственно, естественный закон данный человеку Богом9, по словам Фомы Аквинского, не что иное, как «свет разума, жение о реальности естественного нравственного закона как принципа, имеющего безусловный и всеобщий характер и лежащего в основе всех правовых и этических норм» (Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М., 1994. С. 32). Также, по определению проф. прот. Н. Стеллецкого, «под именем естественного нравственного закона разумеются сознанные и формулированные умом правила внутреннего и внешнего поведения человека, на основании предшествовавшего неоднократного возбуждения нравственного сознания и чувства, и имеющие настолько силы над волей человека, насколько свидетельства нравственного сознания и чувства подкрепляют их требования» (Стеллецкий Н., прот. Опыт нравственного православного Богословия. Т. I. Ч. 1. Харьков, 1914. С. 107–108). По словам проф. прот. И.Л. Янышева, нравственный закон есть «правило, обязывающее человека к добрым намерениям и действиям силою его собственного нравственного чувства» (Янышев И.Л., прот. Православное учение о нравственности. СПб., 1906. С. 54–55). Согласно Г.И. Шиманскому, под именем естественного нравственного закона «разумеется тот, присущий нашей душе внутренний закон, который посредством разума и совести показывает человеку, что добро и что зло» (Мнения о естественном нравственном законе более подробно см.: Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Киев, 2005. С. 54–63).
При этом православные авторы опираются на подобные рассуждения святых отцов. Как подчеркивает свт. Иоанн Златоуст: «Ведь ни Адам, ни другой какой человек никогда, кажется, не жил без закона естественного; вместе с тем, как Бог сотворил (Адама), Он вложил в него и этот закон, сделав его надежным сожителем для всего человеческого рода» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. Беседа XII, 6. М., 1994. С. 629). Причем, этот закон, по мнению свт. Иоанна Златоуста, столь значим, что если мы не имеем его, «то мы не разумнее бессловесных» (Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. С. 628–629). Аналогично и свт. Василий Великий указывает особенность человека, как такового, содержащего «естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но по самой природе» (Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. Беседа 9 // Сайт «Азбука веры». URL: (дата обращения: 31.07.2014). Об этом также см., напр.: Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. П. 2. Естественный нравственный закон. Естественный нравственный закон в учении отцов Церкви. М., 1994. С. 35–36).
В соответствии с православным нравственным богословием, невозможность объяснить происхождение нравственного закона из опыта и из деятельности чистого разума свидетельствует о прирожденности человеку нравственного сознания и чувства. Источником же нравственного закона признается воля Божия, которая является и законом для всего мира, и служит основанием нравственного закона для всех разумно-свободных существ. «Сама же воля Божия становится известной человеку двояким способом: во-первых, посредством его собственного внутреннего существа и, во-вторых, посредством Откровения или положительных заповедей, сообщенных Богом и воплотившимся Господом Иисусом Христом и записанных пророками и апостолами» (Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Киев, 2005. С. 61–62. Также см., напр.: Андреевский И.М. Православно-христианское нравственное богословие // Сайт «Азбука веры». URL: (дата обращения: 31.07.2014)).
влитый в нас Богом; посредством его мы знаем, что надо делать и чего надо избегать. Этот свет или закон Бог дал творению» 10 .
В этой связи можно говорить и о Декалоге, заповедях, данных на Синае, положенных в основу жизни народа Ветхого Завета. Отвечая на вопрос о первой заповеди, Иисус Христос говорит о двух заповедях, содержащих весь Закон Божий 11 . Десять Заповедей принадлежат к Откровению Божию и учат об истинном человечестве человека. В них содержится высшее выражение «естественного закона». По выражению сщмч. Иринея Лионского: «Итак, Закон был для них (иудеев) и средством научения и пророчеством будущего. Ибо Бог сперва наставлял их чрез естественные заповеди, изначала насажденные в людях, т.е. чрез Десятисловие — не исполняющий Которых не имеет спасения — и ничего более от них не требовал» 12 . В свою очередь, в заповедях, призванных оберегать блага личности (притом, что конечным благом и целью является Бог), по словам Фомы Аквинского, содержится весь естественный закон 13 .
Требования Декалога принадлежат к Откровению, хотя они, как подчеркивается в Катехизисе Католической Церкви, и доступны разуму как таковому. Грешное человечество нуждалось в этом Откровении, чтобы достичь полного и уверенного познания требований естественного закона. Заповеди подчеркивают основные обязанности, следовательно, косвенным образом и фундаментальные права, присущие природе человека 14 .
Таким образом, можно говорить и о содержании естественных прав че-ловека15. Соответственно, можно вспомнить известную мысль В.С. Соловьева, раскрывающую, в частности, способ обеспечения общего блага и стабильности в обществе, в котором право в интересах общего блага существует, чтобы не превратить мир в ад16. Так, и само по себе появление основ современного права в Римской империи приходится на период падения нравов, когда мораль стала масштабно преобразовываться в право, ядром которого становится сконцентрированный минимум морали необходимый для стабильного обще-ства17. В этой связи заслуживают внимания идеи русского философа И.А. Ильина, по словам которого, «движимая первоначально инстинктом личного и семейного самосохранения, каждая единичная душа выступает в виде агрессивной во- ли…и очерчивает вокруг себя круги своего нестесненного самоутверждения»18. По мнению И.А. Ильина, таковое самоутверждение составляет «не только психофизическую, но и духовную необходимость». Иметь же возможность «одухотворенной жизни…создавая ее самостоятельно и свободно, есть основное и безусловное право каждого». Соответственно, прежде всего среди свойств такого естественного права определяются такие характеристики как вечное, неотчуждаемое, всеобщее, неумалимое19.
Папа Римский Иоанн Павел II в энциклике «Centesimus annus» рассмотрел перечень основных прав, в том числе, право на жизнь, включающее право ребенка развиваться в материнской утробе с момента зачатия; право жить в единой семье и в нравственной среде, способствующей развитию личности; право развивать ум и свободу в поисках и познании истины; право участвовать в труде по использованию благ земли и зарабатывать этим трудом на жизнь себе и своим близким; право свободно создать семью, иметь и воспитывать детей, ответственно распоряжаясь своей сексуальностью. «В определенном смысле источник и синтез этих прав — религиозная свобода, понимаемая как право жить по истине своей веры, сообразно трансцендентному достоинству своей личности»20. Заметим, что в качестве примера закона, основанного на естественном праве и отражающего конвергенцию различных религиозных и культурных традиций, Папа Римский Бенедикт XVI отметил Всеобщую декларацию прав человека. По его мнению, всеобщность, неделимость и взаимозависимость прав человека служат гарантиями, защищающими человеческое достоинство. При этом права, и изло- женные в Декларации распространяются на всех в силу общего происхождения человека, который остается высокой точкой творческого замысла Божия о мире и истории21.
Говоря о роли естественного закона в католическом социальном учении, особое внимание необходимо обратить на энциклики Папы Римского Льва XIII. Ставший в 1878 г. Папой Римским Лев XIII (Винченцо Джоакино Печчи (1810– 1903)), оказал значительное влияние на развитие современного католического социального учения. Так, первой его энцикликой в 1879 г. стала Aeterni Patris22, официально признавшая томизм основой католического мировоззрения. Соответственно, классический текст о естественном законе, как отмечает, в частности, П. де Лобье, содержится в «Сумме богословия» (IIа, 94) Фомы Аквинского, который в «обращается к мыслям мудрецов Древней Греции и Рима, к идеям отцов Церкви»23. Обращаясь к энцикликам Папы Римского Льва XIII, в которых раскрывается католическое понимание естественного закона, можно назвать эн- циклику Diuturnum illud24 (1881), рассматривающую вопрос о происхождении государственной власти. Затем речь о вопросах государственного устройства продолжается в 1885 г. в энциклике Immortale Dei, в которой говорится о разделении Богом управления человеческим родом на две власти: церковную (над божественными предметами) и гражданскую (над человеческими предметами), каждая из которых действует в рамках своего естественного права. Соответственно, правящие должны действовать со справедливостью, не как господа, а как отцы, ввиду того, что Божье управление человеком осуществляется со справедливостью и отеческой заботой. Гражданская власть призвана не обеспечивать интересы некоего одного человека или немногих лиц, ибо существует для общего блага. Также и законы должны быть нацелены на обеспечение общего блага и должны отражать не обманчивые мнения, даже если это мнения людских масс, а истину и справедливость, что предполагает подчинение не человеку, а воле Божией. В этой связи в энциклике Immortale Dei отстаивается не необходимость определенной формы правления, но допускается возможность участия народа в управлении, которое в определенное время и при определенных законах может служить благу граждан и быть их обязанностью. Однако, какую бы форму не принимало государственное управление, правящие призываются всегда помнить Бога как Владыку мира, как образец и закон для управления государством. При этом в энциклике отмечается, что Церковь, кроме всего прочего, призвана заботиться, чтобы никого не принуждали принимать веру против его воли, ибо, по словам блаж. Августина, «не может человек верить иначе, чем по своей собственной воле»25. Соответственно в государстве права граждан должны быть защищены божественным, естественным и человеческим законом.
Существенное значение в развитии католического социального учения имеет энциклика Libertas praestantissimum, обращающаяся к природе свободы человека и указывающая на проблемы человеческой свободы, нуждающейся в свете и силе, направляющих её ко благу и удерживающих их от зла, без чего свобода воли была погибельной. Согласно Libertas praestantissimum26 для руко- водства человеком необходим закон, направляющий к добру своими наградами и отвращающий от зла наказаниями. Прежде всего, это естественный закон, написанный и высеченный в сердце каждого человека; который есть «ничто иное, как наш разум», повелевающий нам поступать справедливо и отталкивающий от греха. Однако все предписания человеческого разума могут иметь силу закона поскольку, являются голосом высшей силы, от которой зависят наши разум и свобода. Сила закона заключается в наложении обязанностей и даровании прав. Однако всё это, очевидно, не может иметь основания в человеке, как будто он сам высший законодатель, он же и критерий собственных действий. Бог соизволил придать такому правилу деятельности и отвержения от зла специальные и наиболее пригодные вспомогательные средства для укрепления и упорядочения воли человека. Первейшая и наиболее прекрасная из них есть сила Его Божественной благодати, посредством которой разум может просвещаться, а воля — благотворно укрепляться и подвигаться к постоянному стремлению к нравственному благу, таким образом, что использование нашей врожденной свободы становится менее трудным и менее опасным. Причем Божия помощь никоим образом не стесняет свободного движения нашей воли — совсем наоборот, ибо благодать действует в человеке внутренне и в гармонии с естественными его наклонностями, поскольку проистекает от Самого Творца наших разума и воли, Который все предметы движет в соответствии с их природой27. Соответственно, такая Божия помощь не мешает свободному движению воли человека. Напротив, благодать действует внутри человека и в гармонии с естественными его наклонностями, ибо проистекает от Самого Творца, его разума и воли, Который все создания направляет в соответствии с их природой28.
В Libertas praestantissimum рассматривается и вопрос отражения естественного закона в законе человеческом и отмечается, что, сказанное о свободе отдельных лиц применимо к ним, и когда людей рассматривают в рамках гражданского общества. То, что разум и естественный закон делают для индивидуумов, закон человеческий, провозглашенный для их блага, делает для граждан государства. Но не гражданское общество создало человеческую природу, следовательно, нельзя назвать его и создателем блага, соответствующего этой природе, или зла, которое противостоит ей. Таким образом, человеческие законы не ведут свое происхождение из гражданского общества, но они предшествуют жизни людей в обществе и порождены вечным законом. Вследствие этого, указания естественного закона, представленные в виде человеческих законов, не только имеют силу человеческого закона, но они имеют высшую и более благородную санкцию. Соответственно, долг гражданского законодателя главным образом заключается в утверждении общей дисциплины, сохраняющей общество в послушании, и ограничении людей склонных ко злу, чтобы они могли обратиться к добру или по меньшей мере опасались создавать проблемы и беспорядок в государстве. Существуют и законы гражданской власти, следующие не прямо из естественного закона, а опосредованно, решая вопросы, которые естественный закон трактует лишь в общих чертах, без описания конкретного способа. Так, хотя природа требует всем вносить вклад в общественную гармонию и процветание, все, что относится к методу, обстоятельствам и условиям, при которых эту деятельность следует исполнить, должно быть определено разумом человека, а не самой природой. Человеческий закон призван соединить всех граждан вместе трудиться ради достижения общей цели, в той мере, пока человеческий закон соответствует требованиям природы, ведет ко благу и удерживает от зла29.
Из этого в Libertas praestantissimum делается заключение, что вечный закон Божий является «единственным стандартом и правилом человеческой свободы», не только каждого индивидуума, но местных сообществ и гражданского общества, которые люди создают объединяясь. Вследствие этого действительная свобода человеческого общества состоит не в том, чтобы каждый человек делал, что хочет, т.к. это просто закончилось бы беспорядком и крахом и привело бы к разрушению государства, но, наоборот, — в том, чтобы посредством норм гражданского закона все могли бы легче адаптироваться к предписаниям закона вечного. Подобно и свобода тех, кто находится во власти, состоит не в возможности предписывать необоснованные и волюнтаристские директивы своим гражданам, что было бы в равной степени и преступно, и привело бы к краху государства. Но объединяющая сила человеческих законов состоит в том, что они должны расцениваться, как применение вечного закона и не способны санкционировать ничего, что не содержится в вечном законе как основе всякого закона. Если же кто-то, находящийся во власти, санкционирует то, что не согласуется с верным основанием и поэтому пагубное для государства, такой закон не может иметь обязательной законной силы, т.к. не соответствует принципу справедливости, но бесспорно уводит людей далеко от того блага, которое является истинной целью гражданского общества. В этой связи в энциклике приводится цитата из творения «О свободе воли» блаж. Августина: «…нет ничего справедливого и законного в этом мирском законе, кроме того, что взято людьми из этого вечного закона»30. Важность данного положения подчеркнул и Папа Римский Бенедикт XVI, отметивший, что любая юридическая методология, будь то на местном или международном уровне, в конечном счете, черпает свою легитимность в укоренении в естественном законе31.
Законная же власть — от Бога, а «противящийся власти противится Божию установлению» (Рим 13:2). Это предусматривает, что члены общества должны иметь реальную защиту от проступков злых людей. В ином случае, по мнению Папы Римского Льва XIII, где управленческие полномочия недостаточны, или где устанавливаются законы, противоречащие разуму, или вечному закону, или закону Божиему, покорность является недопустимой, чтобы подчиняясь человеку, мы не стали бы непокорны Богу 32 . Соответственно, согласно энциклике Libertas praestantissimum, сущность человеческой свободы, как бы её ни рассматривали, для индивидуума или для общества, для руководителя или для подчиненного, подразумевает необходимость послушания высшему и вечному закону, который есть не что иное, как воля Божия, направляющая ко благу и отклоняющая от зла. Причем воля Божия по отношению к людям не умаляет и не упраздняет их свободу, она защищает и совершенствует ее, т.к. действительное совершенство всякого творения основывается на преследовании и достижении целей им соответствующих, но высшей целью, к которой человеческая свобода должна быть устремлена, это Бог 33 .
Таким образом, как отмечается в Libertas praestantissimum, Церковь не является врагом индивидуальной и общественной свободы в ее истинном понимании. При этом существует множество тех, кто следует по стопам Люцифера и принимают, как свой собственный, его непокорный вопль («Я не буду служить»), а в результате замещают истинную свободу абсолютной и исключительно безрассудной распущенностью. В качестве примера такого подхода среди широко распространенных и влиятельных организаций, «узурпирующих понятие свободы», энциклика выделяет школу либерализма. Исходя из философского рационализма и натурализма, сторонники либерализма, как отмечается в энциклике, утверждают верховное превосходство человеческого разума, ко- торый, отказываясь от обязательного подчинения божественному и вечному разуму, провозглашает свою независимость и назначает сам себя и высшим принципом, и источником, и арбитром по отношению к истине. Соответственно, сторонники либерализма отвергли существование божественной власти, повиновение которой является обязательным, и объявили каждого человека законом для самого себя; из чего произошла этическая система «автономной нравственности», которая под маской свободы освободила человека от послушания воле Божией, заменив ее беспредельной вседозволенностью. Если человека убедить, что он никому не подчинен, отсюда можно вывести идею, что реальную причину единства гражданского общества не нужно пытаться найти в каком-либо принципе, внешнем для человека или неподвластном ему. Тогда его можно убедить, что эта причина заключается в свободной воле личности, что власть в государстве проистекает только от людей и именно разум каждого человека является его единственным правилом жизни, т.о. коллективный разум народа должен быть верховным руководством в управлении всеми общественными отношениями. Отсюда, как делается вывод в энциклике, происходит доктрина о верховной власти большинства и принадлежности ему всех прав и функций34.
По мнению Папы Римского Льва XIII, доктрина подобного типа является чрезвычайно пагубной и для личности, и для государства. Стоит человеческому разуму присвоить авторитет решать, что является правильным и благом — и реальное отличие добра и зла уничтожается, ибо в таком случае честь и бесчестие различаются не по сущности, а по мнению и оценке каждого. Соответственно, наслаждение становится мерой законности и естественно открывается путь ко всеохватывающей порочности. Аналогичные проблемы энциклика видит и в сфере общественных отношений, ибо власть отделяется от истинного и естественного закона, из которого она выводила всю свою деятельность для общего блага, а закон, определяющий, что делать правомерно и от чего уклоняться, становится в зависимость от воли большинства. Это есть дорога, ведущая прямо в тирании. К тому же, честолюбивые проекты о независимости приведут к беспорядкам и мятежам. Когда голос долга и совести умолкнет, то сдерживающим фактором станет только насилие, которое бессильно в одиночку противостоять алчности. Папа Римский Лев XIII обратил внимание на существование почти ежедневных подтверждений этого предположения в ходе конфликтов с социалистами и членами иных мятежных объединений, безостановочно трудящимися ради революции 35. Заметим, что все это имело место за несколько десятиле- тий до революционных событий в целом ряде стран мира (в том числе, почти за 30 лет до трагических событий в России XX века, начавшихся с февраля 1917 года)36.
Таким образом, как заключает энциклика Libertas praestantissimum, человек, в соответствии с потребностью его природы, целиком подчинен истинной и постоянной воле Божией (идет ли речь об общественных делах, личных или семейных). Следовательно, любая свобода, за исключением, той, что состоит в послушании Богу и в подчинении Его воле, бессмысленна. Отвергать наличие такой власти у Бога или уклоняться от повиновения ей означает — не поступать как свободный человек, а изменнически неправильно использовать свою свободу. По словам энциклики, в таком состоянии разума состоит основной и смертельный порок либерализма. При этом не отклоняется ни одна из моделей управления, способных обеспечить благосостояние граждан, но, как и требует сущность Церкви, энциклика выражает пожелание в том, чтобы они учреждались без несправедливости по отношению к кому-либо, особенно без попрания прав Церкви. Кроме того для всех подчеркивается целесообразность принимать участие в управлении государственными делами, одобряются все, кто служит общему благу и делает все возможное для защиты, охраны и процветания страны. В тоже время энциклика говорит о том, что не осуждает тех, кто желает сделать свою страну независимой от иностранной или деспотической власти, если это можно сделать без нарушения справедливости 37 .
Также следует отметить наличие в энциклике идеи о связи свободы и достоинства человека. В частности, отмечается, что свобода является величайшим из природных дарований и присуща только разумным существам. Важнейшее значение имеет способ использования достоинства и свободы 38 . Об этом же говорит и современный Катехизис Католической Церкви (Часть Третья. Жизнь во Христе. Первый раздел. Призвание человека — жизнь в Духе. Глава первая. Достоинство человеческой личности.): «Достоинство человеческой личности укоренено в сотворении ее по образу и подобию Божию (статья 1); оно осуществляется в призвании ее к божественному блаженству (статья 2). Человеку присуще свободно идти к его достижению (статья 3). Своими сознательными действиями
(статья 4) человеческая личность принимает или не принимает добро, обещанное Богом, подтвержденное нравственным сознанием (статья 5)» 39 .
Заметим, что этой проблеме существенное внимание уделяется в «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», в которых подчеркивается особенность природы человека, сотворенной Богом и наделенной Им свойствами по Его образу и подобию (Быт 1, 26), на основании чего утверждается наличие у человеческой природы неотъемлемого достоинства. Свт. Григорий Богослов соотносил человеческое достоинство с актом Божественного творения: «Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы, и богатство благости Своей» 40 . Кроме того в «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» речь идет о том, что Богоданное достоинство подтверждается существованием у каждого человека нравственного начала, распознаваемого в голосе совести. При этом Бог наделил человека и достоинством, и свободой. В свою очередь употребление свободы во зло ведет к умалению собственного достоин-ства 41 человека и унижению достоинства других людей. Таким образом, важнейшей задачей общества признается формирование механизмов, восстанавливающих гармонию человеческого достоинства и свободы 42 .
Если обратиться к вопросам формирования этих механизмов, то можно вспомнить, что одним из основополагающих положений Libertas praestantissimum является мысль о порядке, установленном Богом43, который основывается на идее господства Бога над человеком и повиновения человека перед Богом. Этот порядок предполагает существование права не подчинять- ся тем указаниям власть имущих, которые очевидно противоречат воле Божией и божественному порядку. Тогда как значительные бедствия современности происходят из фальшивой свободы, которая так сильно превозносится и в которой, как предполагалось, содержатся ростки безопасности и счастья. Средством же от болезни в энциклике называется возврат к христианскому учению, к истинной доктрине, от которой можно ожидать защиту порядка и сохранность подлинной свободы44 .
Важнейшее значение в формировании современного католического социально-экономического учения принадлежит энциклике Папы Римского Льва XIII Rerum Novarum45, посвященной положению трудящихся. Энциклика Rerum Novarum явилась существенным шагом к созданию того, что в дальнейшем назвали «социальной доктриной», «социальным учением», «учительным наставлением» Церкви о социальных предметах, системы воззрений, способствующей ей «исследовать социальные реалии, высказывать о них свое мнение и направлять к верному решению порождаемых ими проблем»46. Это стало тем более актуальным, учитывая широкую распространенность совершенно иного мнения о роли Церкви, предполагающего, что вера касается не земной жизни, а спасения «на небесах», и никак не освещает, не направляет земную жизнь. Именно благодаря Rerum Novarum становится все более влиятельной точка зрения, предполагающая, что распространение социальной доктрины входит в христианскую весть Церкви, ибо она показывает последствия этой вести в жизни общества и объединяет повседневный труд и борьбу за справедливость со свидетельством о Христе Спасителе. Более того, это учение должно стать источником единства перед лицом конфликтов, возникающих в социально-экономической области47.
В целом, энциклика Rerum Novarum посвящена особенностям развития социально-экономических отношений и нарастающим противоречиям труда и капитала накануне XX века. В энциклике проанализированы причины и возможные последствия этих процессов, сопровождавших развитие индустрии и науки. Ибо все нагляднее становился рост богатства незначительного количества людей при полной нищете масс и нравственном вырождении общества 48 . Обращая внимание на проблемы развития человеческой цивилизации, энциклика подчеркивает необходимость серьезно учитывать природу человека, который является властелином своих действий, будучи в состоянии связать прошлое и настоящее, и управляет своими путями под воздействием вечного закона и воли Бога, Который промыслительно руководит всем миром. При этом принципы жизни общества призваны подкреплять и обеспечивать гражданские законы, которые справедливы до тех пор, пока происходят из естественного закона. Соответственно, законы и суждения человеческие должны быть согласованы с законами и суждением Христа, истинного Бога 49 .
Подход католического социального учения, представленный в энциклике Rerum Novarum, опирается на идеи социального и государственного устройства и на понимание справедливости и роли естественного права Фомой Аквинским. Причем, как отмечалось, первой энцикликой Папы Римского Льва XIII была Aeterni Patris (1879), в которой система взглядов Фомы Аквинского предстает как основа богословия, научных и философских исследований Католической Церкви. Исходя из представлений Фомы Аквинского, можно заключить, что человеческий закон является законом благодаря его соответствию вечному закону, иначе он является неправомерным законом, а в этом случае он вовсе не есть закон, но, наоборот, он становится разновидностью насилия 50 .
При этом особое внимание в Rerum Novarum уделяется защите естественного права на брачную жизнь и связанного с ним естественного права на частную собственность. В этом отношении, снова используется ссылка на авторитет Фомы Аквинского, считавшего, что владеть частной собственностью — «и законно, и необходимо для поддержания человеческого существования», что «человек не должен рассматривать свое материальное богатство как свое собственное», но как собственность всего общества и быть готовым без колебаний делиться им с нуждающимися. Хотя, по его мнению, никто не обязан «раздавать другим то, что требуется для собственных потребностей и потребностей своей семьи», а также человек не обязан отдавать и то, что он должен иметь в разумных рамках согласно его общественному положению51.
Еще одно естественное право человека, которое отстаивается в Rerum Novarum, — это право на объединение в профессиональные союзы. Препятствуя своим гражданам создавать ассоциации, государство отрицало бы принцип своего собственного существования, т.к. они оба (государство и ассоциации, особенности которых также рассматриваются на основе идей Фомы Аквинско-го 52 ) существуют в силу естественной склонности человека жить в обществе. В контексте рассматриваемой темы Папа Римский Лев XIII подчеркнул важнейшую роль государства в жизни общества. Понимая под термином «государство» не форму правления того или иного народа, а правление, институты которого выстроены согласно здравому смыслу и естественному закону 53 , энциклика Rerum Novarum подчеркивает обязанность государственных руководителей заботиться, чтобы законы и учреждения, общее положение и управление были бы нацелены на достижение общего и частного блага 54 .
Таким образом, в энцикликах, являющихся основанием современного католического социального учения, значительная роль отводится естественному закону. В целом ряде официальных документов Католической Церкви конца XX века этому вопросу также уделяется пристальное внимание.
В этом отношении особое значение имеют документы понтификата Иоанна Павла II (1978–2005 гг.). Прежде всего, среди официальных документов Католической Церкви данного периода необходимо отметить Катехизис Католи- ческой Церкви, обнародованный в 1992 г. и подчеркивающий: ”«Божественный и естественный» закон указывает человеку путь, по которому надо идти, чтобы делать добро и достигать своего назначения. Естественный закон излагает первые и основные правила, управляющие нравственной жизнью. Краеугольным камнем его является стремление к Богу и послушание Ему, Источнику и Судье всякого блага, а также восприятие всякого другого человека как самого себя”55.
Одной из основных характеристик естественного закона Катехизис Католической Церкви называет то, что он универсален в своих предписаниях, его власть распространяется на всех людей. Он присутствует в сердце каждого человека, выражает достоинство личности и определяет основание ее фундаментальных прав и обязанностей. Несмотря на универсальность естественного закона, отмечается, что его применение может быть различным в зависимости от места, эпохи и обстоятельств. Хотя, при всем многообразии культур он является правилом, соединяющим людей друг с другом и предписывающим им общие принципы, преодолевающие неизбежные различия. Также отмечаются такие характеристики естественного закона, как неизменность 56 и постоянность, ибо он существует среди изменяющихся идей и обычаев и содействует их развитию, несмотря ни на какие исторические изменения, постоянно возрождается в жизни индивидов и общества. В этой связи подчеркивается, что даже если «дойти до отрицания принципов этого закона, нельзя ни уничтожить его, ни вырвать из сердца человека» 57 .
Однако, как подчеркивает Катехизис Католической Церкви, естественный закон не всеми воспринимается ясно и непосредственно, грешному человеку для безошибочного познания моральных и религиозных истин необходимы благодать и Откровение. «Естественный закон дает Закону, дарованному в Откровении, и благодати основу, подготовленную Богом и находящуюся в полной гармонии с действием Святого Духа» (о чем, в частности, шла речь в энциклике Папы Римского Пия XII Humani Generis (1950))58. При этом отмечается, что в основных своих положениях естественный закон изложен в Декалоге, в котором выражены многочисленные истины, естественно доступные разуму. Со- ответственно, Ветхий Закон рассматривается как первый этап Закона, данного в Откровении, как подготовка к Евангелию. Тогда как Евангельский Закон предстает как совершенство на земле Божьего Закона, естественного и данного в Откровении59.
Отстаивая важность естественного закона, Папа Римский Иоанн Павел II в энциклике Evangelium vitae (1995), утверждает, что никакие обстоятельства, никакая цель, никакой закон не смогут сделать приемлемым деяние, противостоящее Закону Божьему, написанному в сердце каждого человека, познаваемому разумом, и о котором свидетельствует Церковь 60 . В этой связи Папа Римский выступил против того, что такая форма правления как демократия автоматически признается моральной, ибо ее ценность зависит от ее соответствия нравственному закону, которому она должна подчиняться, как и любая другая форма человеческой деятельности. Так как демократия сама по себе «является средством, а не целью», то ее нравственная ценность зависит «от нравственности целей, к которым она стремится, и средств, которые она использует». В энциклике подчеркивается, что без объективного нравственного основания демократия не способна обеспечить стабильный мир, тем более, что мир, построенный не на таких ценностях, как достоинство каждой личности и солидарность между всеми людьми, часто оказывается иллюзорным. В таких системах управления регулирование интересов часто происходит в пользу более сильных, так как они наиболее способны умело управлять не только рычагами власти, но и формированием общественного мнения. По словам энциклики: «В такой ситуации демократия легко становится пустым словом» 61 .
Значительно место в энциклике занимает защита естественного права человека на жизнь, тем более, что само существование общества объясняется его призванием служить личности. В этой связи Папа Римский Иоанн Павел II выступил категорически против абортов и эвтаназии, называя их преступлениями, которые человеческий закон не может признать допустимыми. Таким образом, гражданские законы, признающие аборты и эвтаназию, в силу этого факта прекращают быть истинными, нравственно обязательными. Соответственно, не только не существует обязанности подчиняться им по совести, но существует ясная обязанность сопротивляться им по совести. Как это было в истории еврейского народа, описанной в Ветхом Завете, когда «Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет» (Исх 1,15– 16). Однако повивальные бабки показали, прежде всего, свое послушание Богу: «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых» (Исх 1,7)62.
В этом отношении также можно привести слова Папы Римского Бенедикта XVI о том, что никакой человеческий закон не может превосходить норму, «записанную Творцом», в противном случае общество станет сильно повреждено непосредственно на уровне своей сущностной основы. Забыть об этом — означало бы «ослабить семью, поставить в невыгодное положение детей», а в более широком плане, это означало бы формирование ненадежного фундамента для будущего общества 63 .
Значительное внимание уделяется естественному закону в энциклике Папы Римского Иоанна Павла II Veritatis splendor 64 . В свою очередь, энциклика обращается к трудам блаж. Августина, Фомы Аквинского, предыдущим документам Католической Церкви, в частности, II Ватиканского Собора, отметившего, что «наивысшая норма человеческой жизни есть сам Божественный закон, вечный, объективный и универсальный, которым Бог, в Своем замысле премудрости и любви, распоряжается, руководит и управляет всем миром и путями человеческого общества. Бог приобщает человека этому Своему закону так, что человек по благостному распоряжению Божественного провидения может всё более и более познавать неизменную истину» 65 . При этом энциклика подчеркивает, что блаж. Августин определял Божий вечный закон как разум или волю Божию, требующую соблюдать естественный порядок и препятствующую расстраивать его 66 .
Интересно обратить внимание на мнение Хосе Мария Вегаса, считающего, что большинство учебников по католическому нравственному богословию после Тридентского Собора и вплоть до Второго Ватиканского Собора рассматривали закон только с позиции естественного закона, часто понимаемого в юридическом духе, и толковали христианскую этику исключительно с точки зрения обязанностей и запретов. Тогда как после Второго Ватиканского Собора, следуя его указаниям67, католическое нравственное богословие, по словам Хосе Мария Вегаса, старается присоединить к пониманию нравственности новый Закон любви и тем самым возвращается к традиции Церкви, идущей от св. Отцов и Фомы Аквинского. «Особенно выразительно проявляется этот возврат и решительное обновление понятия евангельской нравственности в энциклике Сияние истины» (Veritatis splendor)68.
Энциклика Veritatis splendor напоминает разговор Иисуса Христа с богатым юношей, задавшим актуальный вопрос: «Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» (Мф 19:16). Таким образом, нравственность представляет собой не просто систему норм поведения, но есть «вопрос экзистенциальный, касающийся всей жизни человека, ее полноты и конечного смысла», который соотносится с вопросом о том, «что есть благо для человека». В ответе даны указания для понимания источника нравственного измерения человека, смысла и взаимосвязи естественной морали и закона Евангелия. Так, Спаситель говорит: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди» (Мф 19:17). Таким образом, источником всякого блага может быть только Бог. Соответственно, моральные требования и ценности доступны для понимания и принятия в полной мере только в тесной связи с Богом, от которого все они происходят. И только в Боге человек может обрести исчерпывающий ответ на свой экзистенциальный поиск и жажду полноты смысла жизни 69 .
Кроме того этот ответ указывает на значение заповедей Десятословия: «Соблюди заповеди» (Мф 19:17). Соответственно естественный закон, отраженный в Десятословии, признается как истинный путь ко спасению. Но далее становится ясно, что этого недостаточно. На следующий вопрос: «Чего еще недостает мне?» (Мф 19:20). Иисус Христос открывает новую и высшую возможность: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною».
(Мф 19:21). Совершенство заключено в полноте любви к ближним и в следовании за Иисусом Христом. Новый закон Евангелия ни отвергает, ни заменяет Десятословие, а развивает и совершенствует его: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, а исполнить» (Мф 5:17) 70 .
Энциклика Veritatis splendor рассматривает роль естественного закона, опираясь на подход Фомы Аквинского, по замечанию которого, Божий естественный закон является типом Божественной премудрости, которая движет все творение к соответствующей ему цели. При этом Бог обеспечивает человека иным способом, по сравнению с прочими творениями, не являющимися личностями. Он заботится о человеке не «снаружи», посредством законов физической природы, но «изнутри», посредством разума, который, благодаря естественному знанию Божьего вечного закона, может показать человеку верное направление его свободных действий. Таким образом, Бог приглашает человека принять участие в Своем Провидении, Он хочет управлять миром (не только миром природы, но также миром человеческих личностей) посредством самого человека, посредством его благоразумного и ответственного попечения. Естественный закон предстает как человеческое выражение Божьего вечного закона 71 .
Причем, среди всего творения, как отметил Фома Аквинский, разумное творение подчиняется Божьему провидению самым прекрасным способом, поскольку оно принимает участие в провидении, обеспечивая и себя, и окружающих. Соответственно, оно принимает участие в Вечном Разуме, в силу чего имеет естественную тенденцию к добродетельному поведению и цели. Такое участие вечного закона в разумном творении, согласно Фоме Аквинскому, называется естественным законом72 . В данном контексте особое внимание энциклика Veritatis splendor, опираясь, в частности, на документы II Ватиканского Собора, обращает на совесть, как норму личной нравственности. «В глубине своей совести человек открывает закон, который не сам он себе дал, но которому он должен повиноваться, и голос которого, всегда призывающий его любить и делать добро, а зла избегать, отзывается, когда нужно, в его сердце: вот это делай, а вот этого избегай. Ибо человек имеет в сердце Богом написанный закон, в повиновении которому заключается всё его достоинство и по которому он будет судим (Рим 2:14–16). Совесть — самое тайное и святое святых человека, где он пребывает наедине с Богом, Чей голос звучит во глубине его души. Через со- весть дивным образом открывается закон, который исполняется в любви к Богу и к ближнему (Мф 22:37–40; Гал 5:14)»73.
Однако, чтобы иметь «добрую совесть» (1 Тим 1:5), необходимо искать истину. Для этого совесть должна быть освещена Святым Духом (ср. Рим 9:1) и чиста (ср. 2 Тим 1:3), а также человек должен не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божия, открывать истину (ср. 2 Кор 4:2). В этом воспитании совести важнейшим является стремление к познанию учения Церкви, обязанность которой и есть — возвещать Истину (ср. 1 Тим 3:15). В противном случае, вследствие «неодолимого неведения» совесть заблуждается, «не теряя при этом своего достоинства». Причем, если человек мало заботится об «искании истинного и доброго», то совесть «по привычному греховному поведению мало-помалу почти заглушается» 74 .
К этой теме обращался преп. авва Дорофей в «Душеполезных поучениях», замечая, что при сотворении человека Бог «всеял в него нечто Божественное, как бы некоторый помысел, имеющий в себе, подобно искре, и свет и теплоту». Этот помысел, просвещая ум человека, показывает ему, что есть доброе, и что злое: «сие называется совестью, а она есть естественный закон»75. Ав-ва Дорофей (напоминая Главу 26 книги Бытия) сравнивает совесть с колодцами, которые филистимляне засыпали, а патриарх Исаак искапывал. Патриархи и все святые прежде написанного закона угодили Богу, именно следуя этому закону, то есть совести. После того, как люди в результате грехопадения зарыли и попрали её, чтобы открыть и воздвигнуть её (совесть), чтобы эту искру снова «возжечь хранением святых Его заповедей», появилась насущная необходимость в законе, изложенном в письменном виде, а также в святых пророках, и, безусловно, в самом пришествии Владыки нашего Иисуса Христа. Теперь же, по словам аввы Дорофея, в нашей власти находится выбор: «или опять засыпать её, или дать ей светиться в нас и просвещать нас, если будем повиноваться ей». Ибо, пренебрегая голосом совести, мы засыпаем и попираем ее. В результате она уподобляется светильнику, который за занавеской недостаточно ясно дает возможность видеть вещи. Соответственно, как в отражении от помутившейся воды невозможно узнать лицо свое, так человек не понимает голоса совести, думая, что ее и вовсе нет. Однако, если она есть «нечто Божественное и никогда не погибает», то значит человек, пренебрегая ею и попирая ее, не слышит голос совести, которая есть у каждого. Но тогда совесть осудит нас в будущем ве-ке76 . Поэтому Господь и увещевает: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу» (Мф 5, 25). Также и св. ап. Павел напоминая о дне, «когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа», обращается к критерию оценки действий язычников, и говорит, что «что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим 2: 15–16). В этой связи можно отметить, что свт. Феофан Затворник по действиям совести отмечает у нее функции законодателя, свидетеля или судии и воздаятеля77.
Мысль св. ап. Павла о законе, написанном в сердце человека, цитируется в «Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», в которых раскрывается христианское понимание свободы, а также связь свободы, достоинства и прав человека. Согласно «Основам учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», «богоданное достоинство подтверждается наличием у каждого человека нравственного начала, которое опознается в голосе совести». Таким образом «присущие человеческой природе нравственные нормы, как и нравственные нормы, содержащиеся в Божественном откровении, обнаруживают замысел Божий о человеке и его предназначении». Соответственно, совокупность указанных норм является ориентиром для благой жизни, которая была бы достойной богоздан-ной природы человека78. В этом можно видеть продолжение идей «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви», указывающих на необходи- мость «сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть остается «самовластным» хозяином, ибо от свободного волеизъявления в конечном счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа»79.
Список литературы Естественный закон в позиционировании современного католического социального учения
- Андреевский И.М. Православно-христианское нравственное богословие//Сайт «Азбука веры». URL: http://azbyka.ru/dictionary/13/andreevsky_pravoslavnoe _bogoslovie _14-all.shtml (дата обращения: 31.07.2014).
- Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. Беседа 9//Сайт «Азбука веры». URL: http://azbyka.ru/otechnik/? Vasilij_Velikij/besedy_na_ shestodnev=9 (дата обращения: 31.07.2014).
- Голубев К., Лукин С.В. Теория ордолиберализма и католическое социальное учение: некоторые параллели//Христианское чтение. 2010. № 3. С. 89-112.
- Григорий Богослов, свт. Избранные слова. Слово 14. «О любви к бедным»//Сайт «Предание». URL: http://predanie.ru/lib/html/67845.html \#TOC _id2539900 html (дата обращения: 31.07.2014).
- Дорофей, прп. Душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов на оные Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. М., 2000.
- Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993.
- Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Послание к Римлянам. М., 1994.
- Ириней Лионский, сщмч. Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей)//Сайт «Азбука веры». URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Irinej_Lionskij/vs_eres=4 (дата обращения: 31.07.2014).
- Катехизис Католической Церкви. М., 2001.
- Компендиум социального учения Церкви. М., 2006.
- Лобье П. де. Три града. Социальное учение христианства. СПб., 2001.
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви//Официальный сайт Московской Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422 (дата обращения: 31.07.2014).
- Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека//Официальный сайт Московской Патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М., 1994.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия. Эл. версия: Сайт «Азбука веры». URL: http://azbyka.ru/dictionary/13/solovyev _nravstvennaya _philosofiya_21-all.shtml (дата обращения: 31.07.2014).
- Стеллецкий Н., прот. Опыт нравственного православного Богословия. Т. I. Ч. 1. Харьков, 1914.
- Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М., 1997.
- Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1913.
- Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М., 1998.
- Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М., 2006.
- Вегас Х.М. Основы христианской этики. СПб., 2007.
- Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Киев, 2005.
- Янышев И.Л., прот. Православное учение о нравственности. СПб., 1906.
- Dignitatis humanae. Декларация о религиозной свободе//Второй Ватиканский собор. Брюссель, 1992. С. 439-451.
- Gaudium et Spes. Пастырская Конституция о Церкви в современном мире//Второй Ватиканский Собор. Брюссель, 1992. С. 329-428.
- Optatam totius. Декрет о подготовке ко священству//Второй Ватиканский Собор. Брюссель, 1992. С. 223-239.
- Benedictus XVI. Apostolic Journey to the United States of America and Visit to the United Nations Organization Headquarters. Meeting with the Members of the General Assembly of the United Nations Organization. Address of His Holiness Benedict XVI (18.04.2008)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit_en.html (дата обращения: 31.07. 2014).
- Benedictus XVI. Address of His Holiness Benedict XVI to the Participants in the International Congress on Natural Moral Law (12.02.2007)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20070212_pul _en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Ioannes Paulus II. Apostolic Constitution Fidei Depositum (11.10.1992)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul _ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19921011_fidei-depositum _en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Ioannes Paulus II. Centesimus Annus (01.05.1991)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/john _paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_01051991_centesimus-annus_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Ioannes Paulus II. Evangelium vitae (25.03.1995)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/john _paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Ioannes Paulus II. Veritatis splendor (06.08.1993)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/john _paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Leo XIII. Aeterni Patris (04.08.1879)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_ enc_04081879_aeterni-patris_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Leo XIII. Diuturnum illud (29.06.1881)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_ enc_29061881_diuturnum_sp.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Leo XIII. Immortale Dei (01.11.1885)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii _enc_01111885_immortale-dei_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Leo XIII. Libertas praestantissimum (20.06.1888)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l -xiii_enc_20061888_libertas_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Leo XIII. Rerum Novarum (15.05.1891)//Vatican: the Holy See. URL: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_ enc_15051891_rerum-novarum_en.html (дата обращения: 31.07.2014).
- Pius XII. Humani Generis (12.08.1950)//Vatican: the Holy See. URL:. http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_ enc_12081950_humani-generis_en.html (дата обращения: 31.07.2014).