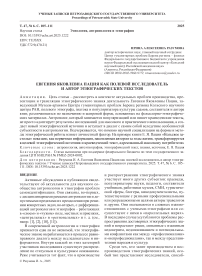Евгения Яковлевна Пация как полевой исследователь и автор этнографических текстов
Автор: Разумова И.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 6 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи – рассмотреть в контексте актуальных проблем производства, презентации и трансляции этнографического знания деятельность Евгении Яковлевны Пации, заведующей Музеем-архивом Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра РАН, полевого этнографа, знатока и популяризатора культуры саамов, составителя и автора книг, различающихся по назначению и жанровой форме, основанных на фольклорно-этнографических материалах. Антрополог, который занимается популяризацией или пишет краеведческие тексты, не просто адаптирует результаты исследований для массового и практического использования, а создает новый этнографический источник и вступает в диалог с самим собой вследствие особенностей субъектности в антропологии. Подчеркивается, что помимо научной социализации на формы и методы этнографической работы влияет личностный фактор. На примере книги Е. Я. Пации «Кольское застолье» показано, как первичная информация, накопленная автором за годы жизни, трансформируется в целевой этнографический источник и краеведческий текст, адресованный массовому потребителю.
Антропология, автоэтнография, этнографический текст, знания, источник, Е. Я. Пация
Короткий адрес: https://sciup.org/147251808
IDR: 147251808 | УДК: 572.9(470.21) | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1222
Текст научной статьи Евгения Яковлевна Пация как полевой исследователь и автор этнографических текстов
Активные обсуждения и публикации свидетельствуют об актуальности для научного сообщества антропологов и этнографов проблем самоидентификации. Они связаны, во-первых, с дисциплинарными рамками антропологии и допустимыми пределами их преодоления при решении конкретных задач, во-вторых, с дифференциацией антропологов и этнографов – работающих в «своем» и «чужом» поле, местных и приезжих, «центральных» и «региональных» и т. д. (см., напр.: [1], [2], [10], [11]).
В современной антропологии и этнографии признается едва ли не аксиомой, что этнографическое знание вырабатывается в процессе равноправного диалога между исследователем и информантом. Внутри каждой из этих категорий участников исследования существует распределение по статусным и культурным основаниям. Реже учитывается тот факт, что в производстве и распространении этнографического знания участвует много других субъектов: краеведы, популяризаторы науки, педагоги, составители учебников, работники музеев, СМИ, туристической сферы, блогеры, кинодокументалисты, путешествующие с разными профессиональными или рекреационными целями авторы травелогов и другие. Они оказываются в сложных взаимоотношениях с учеными-этнографами или сосуществуют с ними в «параллельных мирах». В последнем случае усугубляются проблемы распространения достоверных этнографических знаний и возрастают риски, связанные с взаимным недоверием, недопониманием и потенциальными конфликтами как между «профессионалами» и «непрофессионалами», так и между представителями народов и культур.
Среди тех, кто занят производством и воспроизводством этнографических знаний, особый тип представляют исследователи, способ- ные совмещать и достаточно легко переключать свои роли и регистры коммуникаций, меняя вид деятельности. Таким человеком, на наш взгляд, была Евгения Яковлевна Пация (1945–2022), одна из создателей Музея-архива изучения и освоения Европейского Севера России Центра гуманитарных проблем Баренц региона Кольского научного центра Российской академии наук (ЦГП КНЦ РАН) в середине 1970-х годов, а затем его многолетний руководитель. Долгие годы она изучала культуру саамов, проводила полевые исследования, публиковала статьи и книги, включая сборники сказок для детей в своей литературной обработке, вела экскурсии и читала лекции о быте и фольклоре коренного населения Кольского полуострова. Она была не только хорошо осведомлена о социальных процессах в саамской среде, но и участвовала в общественно-культурной работе. Е. Я. Пация стала признанным экспертом по саамской культуре. Спектр ее деятельности позволяет обратиться к важной для науки проблеме: занимаясь популяризацией, сочиняя туристические или краеведческие тексты, антрополог отдает себе отчет в том, что не просто адаптирует результаты исследований для массового и практического использования, а создает новый этнографический источник. При этом он вступает в диалог с собой – в силу особенностей субъектности в антропологии.

Е. Я. Пация. Фото Хибинформбюро. 28.06.2018
(кор. С. Наглис). grazhdaninom-apatitov/
Evgenia Ya. Patsiya. Photo by Khibinformburo, 28 June 2018 (reporter Svetlana Naglis). Source:
ПОЛЕВИК И ЧЕЛОВЕК-ИСТОЧНИК
В современных антропологии и этнографии основным способом получения информации считается полевая работа. Евгения Яковлевна
Пация была отличным полевиком. Чтобы это понять, достаточно было один раз побывать с ней в экспедиции. По существу у нее было филологическое образование (какое давал в годы ее учебы факультет журналистики ЛГУ), а специальность – журналистика, что предполагает особые коммуникативные склонности, умения и навыки. Неслучайно для Е. Я. Пации из всех областей филологии самой близкой была фольклористика, которая тесно связана с этнографией, а иногда даже включается в ее состав – во многом из-за единства полевых методик.
Волей обстоятельств Евгении Яковлевне пришлось менять профессии и виды работы: журналист, сотрудник Северного филиала Географического общества СССР, музейный работник, научный сотрудник Отдела экономических исследований Кольского филиала Академии наук (КФАН СССР), заведующая Музеем-архивом [18]. Есть много общего в содержании и смыслах этих видов деятельности. Они связаны, во-первых, с изучением истории и культуры региона, во-вторых, с просветительством, в-третьих, с разъездами по территории и общением с людьми, наконец, с собиранием – в самом широком значении слова. К собирательской работе относятся поиск предметов и документов для комплектования музейных коллекций и архивных фондов, сбор научной информации, впечатлений для журналистского очерка, а также «собирание людей» в ходе организационной работы по формированию музея, созданию культурных обществ, проведению мероприятий с просветительскими целями. Собиратель – это еще и тип личности. В идеале к нему должны принадлежать музейные, архивные, библиотечные работники, а в первую очередь – исследователи-полевики разных специальностей.
Многими навыками, которые развиваются у этнографа в процессе обучения профессии, Е. Я. Пация обладала, что называется, по природе. Прежде всего, даром общения. Нельзя было не заметить с первой встречи ее умение наладить контакт с человеком, не только слушать, но и рассказывать, то есть – на языке методики – не столько проводить интервью, сколько вести беседу с самыми разными информантами. Собеседник всегда чувствовал интерес к себе, к теме разговора, включенность в ситуацию.
Евгении Яковлевне была присуща острая наблюдательность, благодаря которой по одной внешней детали проясняется важное свойство человека или общности. Например, когда мы в 2004 году только что прилетели в село Чаваньга на Терском берегу и пошли по улице, первое, на что она обратила внимание, это безу- коризненно ровно сложенные поленницы во всех дворах, даже около самых внешне непрезентабельных домиков, – свидетельство приверженности порядку и чувства собственного достоинства сельчан [7]. Е. Я. Пация хорошо адаптировалась к разным условиям быта и к разной социальной среде. Если продолжать, то пришлось бы пересказать все методические рекомендации для полевых исследователей.
Источник гуманитарных знаний – прежде всего сам человек, любой, с которым общается антрополог. Е. Я. Пация – неисчерпаемый «человек-источник» антропологической и собственно этнографической информации. В силу своей исключительной коммуникабельности она была знакома с огромным количеством людей – с их судьбами, характерами, привычками, житейским опытом и жизненными позициями, способностями и т. д. Весь этот опыт она сохраняла в памяти, воспроизводя в нужных ситуациях и при этом помещая в новый ситуативный контекст.
Для того чтобы жизненный факт был осмыслен в качестве этнографического, антропологического, требуется не столько обилие историй, сколько способность их сопоставлять, и часто по неявному признаку. На любой случай, подмеченную деталь поведения, жизненное впечатление, свое или собеседника, и даже на вскользь высказанную мысль у Е. Я. Пации, как правило, находились примеры, аналогии. Аналогическое (метафорическое) мышление помогает видеть неочевидные связи между явлениями. Евгения Яковлевна была гуманитарием, начитанным в художественной и документальной литературе, поэтому легко находила типологические сходства сюжетов, событий, ситуаций, взаимоотношений, личностей. Она быстро подбирала символизирующую тот или иной случай цитату, будь то «народная мудрость» в виде русской, грузинской или саамской пословицы, удачная поэтическая строка или афористичное высказывание известного писателя, а то и просто знакомого.
Письменные этнографические источники Евгения Яковлевна знала превосходно. В этом можно было убедиться при подготовке в 2007 году раздела о саамской семье для энциклопедии «Российская семья» [8], когда потребовалось сделать обзор обширной этнографической литературы в короткие сроки. Узнав, какой темой собирается заниматься коллега, Е. Я. Пация немедленно советовала посмотреть источники, в которых мог быть подходящий материал: историко-этнографические, краеведческие, географические публикации, отчеты естествоиспытателей, записки путешественников ХIХ–ХХ веков и т. д.
На основе текстуального знания источников Евгения Яковлевна нередко высказывала яркую идею, гипотезу, из разработки которой потом вырастало исследование. Однако развивать тему в «академическом» ключе, то есть в соответствии с какими-либо теориями, на языке специальных категорий, и готовить публикацию по правилам научных журналов она не бралась. В лучшем случае прибегала к соавторству. Так получилось, например, с работой об академике А. Е. Ферсмане как символической личности в истории Кольского Севера [9]. Благодаря знанию саамского фольклора и текстов Ферсмана Е. Я. Па-ции удалось проследить трансформации, которые произошли с сюжетом саамского предания о минерале эвдиалите, именуемом «лопарской кровью». Это обозначение, активно эксплуатируемое в частности в экскурсионных текстах и прочей туристической продукции, противоречит содержанию фольклорного предания о борьбе саамов с внешними врагами, согласно которому на камне сохранилась именно кровь побежденного противника [9: 68].
АВТОЭТНОГРАФ?
Для Е. Я. Пации было в высшей степени характерно критическое и ироничное отношение к себе. Критическая самооценка касалась написания научного текста, отсутствия системности в полевой работе (то есть строгой записи и особенно последующих расшифровок, их систематизации, сохранения), а также знания теорий и современной научной литературы. Именно поэтому Евгения Яковлевна этнографом себя не считала. Жаль, что почти не осталось ее полевых аудиозаписей, поскольку она отдавала себя прежде всего музею, его коллекциям, выставочной, экскурсионной, просветительской работе. В то же время изобиловали удивительными деталями и «прозрениями» ее устные рассказы, в том числе экспедиционные истории «в лицах», включавшие описания собственных реакций и поведения в разных ситуациях. Ироничность, сопутствующая остраненному взгляду на пережитую или проживаемую ситуацию, на собственные впечатления, эмоции, была одним из ярко выраженных свойств личности Е. Я. Пации. Важная подробность: Евгения Яковлевна всегда была готова к роли информанта, исполняла ее многократно. Отвечая на вопросы, приводя примеры и рассуждая в процессе беседы, предлагала интерпретацию того, о чем шла речь, объясняла и оценивала свое отношение и понимание «тогда» и «сейчас».
В антропологии давно, и особенно активно в последние два десятилетия, обсуждается и раз- вивается автоэтнография как метод исследований (см., напр.: [13], [14], [15], [16], [17]). Применяющий его антрополог фиксирует и анализирует свой опыт в той или иной сфере жизни и «лишь примеряет к нему некоторые из известных ему и находящихся в обращении теорий и концепций собственной дисциплины» [16: 167]. Автоэтнография ограничена персональным опытом исследователя и «является своего рода гипервклю-ченным наблюдением», поскольку рассмотрению подвергается именно то, чем занят человек в своей жизни, что им прожито не для исследования [16: 169]. Когда исследователь и информант соединяются в одном лице, то сталкиваются профессиональное сознание с обыденным, роль этнографа с ролью носителя нерефлексируемого опыта. Парадоксальности ситуации неизбежно сопутствует ирония, которая, по мнению антропологов, всегда была свойственна этнографии [15: 75].
Очевидно, Евгению Яковлевну можно было бы с долей условности отнести к «автоэтнографам». В ее органичном «жизненном мире» присутствовали разные культуры: по «происхождению» – несколько кавказских (грузинская, мегрельская, абхазская, материнским языком был грузинский), по социализации и образованию – русская, по интересам, знаниям и включенности в культурные связи – саамская. В устном репертуаре Е. Я. Пации были истории о собственной «поликультурности». Например, о том, как ее родственники справляли поминки, распределившись на две группы в разных помещениях за разными столами – по сильно различающимся кавказским обычаям; или о том, как она, уже дипломированная журналистка, профессионально писавшая только на русском языке, могла попасть в смешную ситуацию по незнанию какого-то русского слова. Устное рассказывание всегда было для Евгении Яковлевны предпочтительнее написания текстов, особенно научных. По замечанию А. Готлиб, когда «исследователь погружается <…> в свой собственный мир естественных установок», а объект и субъект физически совмещаются в одном человеке, то языком выражения опыта становится «повседневный, обыденный язык нормального человеческого общения» [3].
СОСТАВИТЕЛЬ И АВТОР ТЕКСТОВ
С проблемой субъекта этнографии связаны дискуссионные вопросы о формах существования и презентации этнографического знания. Предметом дискуссий являются ассоциируемый с автоэтнографией «экспериментальный стиль», не соответствующий сложившимся нормам научного письма; проблемы «объективно- сти данных» и роли памяти в этнографии; возможность рассматривать научные биографии, автобиографии, мемуары в качестве автоэтнографии или, что представляется особенно важным, – взаимодействие «практик и дискурсов, формирующих субъекта производства знания и оказывающих мощное влияние на субъекта интерпретации» [14].
Сразу в нескольких смежных гуманитарных науках выявляется актуальность проблем специфики, взаимосвязи и разграничения научной этнографической, описательной («бытописательской»), документально-художественной, историко-краеведческой, массовой популяризаторской литературы, в том числе «о народах и культурах», для детей и взрослых – при всей условности дефиниций, подходов и критериев распределения литературы non-fiction по областям и жанрам. Разумеется, здесь необходим тщательный анализ текстов и типов изданий методами источниковедения и литературоведения, а также социологии, так как проблема может и должна рассматриваться не только как филологическая, этнографическая или книговедческая, но и социальная. Тексты, которые создавала и публиковала Е. Я. Пация, и виды подготовленных ею изданий, разнообразны в жанровом отношении, по назначению и типу авторства. Детскую художественную литературу пополнили издания сказочно-мифологических текстов в литературной обработке Е. Я. Пации для детей1. Результатом ее совместной музейной работы с информантами стала книга «Саамское рукоделие», по назначению – учебное пособие2. Авторы Екатерина Ивановна Мечкина и Анастасия Елисеевна Мозолевская – учителя, народные мастерицы и активистки, пропагандировавшие саамскую культуру. Е. Я. Пация – инициатор, организатор, составитель, редактор. При переиздании книга не претерпела особых содержательных изменений, но авторы первого и второго изданий указаны в разной последовательности3. Очевидно, так были реализованы принципы «справедливости» и корректности в отношении носителей этнокультуры, тем более что книга выходила при поддержке Саамского культурного фонда.
Е. И. Мечкина – автор еще одной публикации, подготовленной по инициативе и под руководством Е. Я. Пации. Книга «Фольклорные традиции в культуре саамской семьи» [5] основывалась на рукописи личного собрания Е. И. Мечкиной «Саамские пословицы, поговорки, приметы и устоявшиеся выражения». Паремии были опубликованы на двух языках, то есть с русскими аналогами. В процессе подготовки этого первого двуязычного издания саамской паремио- логии тексты были дополнительно прокомментированы для русского читателя. Первую половину небольшой по объему книги занимает «вступительная статья» (очерк) Е. Я. Пации о семье Мечкиных и ее истории, написанная по материалам бесед с автором и отчасти наблюдений. Фактически книга имеет двух авторов (или составителей), но Евгения Яковлевна невысоко оценивала свой вклад в публикации со статусом «научных» и в большей степени мотивировалась «политкорректностью».
Особый интерес представляет книга «Кольское застолье» [6], которую можно читать по-разному. Для массового читателя – это список кулинарных рецептов. Для тех, кто интересуется историей и культурой, рецепты перемежаются с рассказами о продовольственных ресурсах территории, о народах, издавна населявших Кольский полуостров, о переселенцах, имевших другие традиции в питании. Кроме того, повествуется о многочисленных знакомых автора, встреченных на протяжении жизненного пути и заслуживающих упоминания в связи с их пищевыми пристрастиями, кулинарными умениями и творчеством. В обобщенном этнологическом смысле «Кольское застолье» – это субъективное свидетельство того, как осуществлялись процессы столкновения и соединения в новом качестве «местных» и «пришлых» культур на отдельной территории Крайнего Севера. Показаны эти процессы на примере отношения к продовольственным ресурсам и питанию. С точки зрения антрополога, важно и то, как автор, информированный в региональной истории и этнографии, представляет широкой аудитории и развивает означенную идею, основываясь на личном социальном и повседневном опыте и знаниях. Делается это в виде свободного повествования, не обремененного научным аппаратом, ссылками, специальной терминологией. По мере изложения в «Кольском застолье» выстраивается некая система персональных социальных связей автора в пространстве и времени, тематически организованная кулинарными практиками. В книге немало заслуживающих внимания и доверия социально-антропологических «догадок» и этнографических фактов. Например, о том, что на фоне преобладавшего среди приезжих негативного или опасливого отношения к пище саамов – оленине – первыми восприняли этот продукт и начали творчески его использовать ученые-геологи [6: 16–17]; о «кулинарном университете», когда семьи, приехавшие в Заполярье из разных областей и республик страны, устраивали «этнические застолья» и учились друг у друга приготовлению блюд [6: 67].
Интерес Евгении Яковлевны к теме питания закономерен. Она была знатоком и практиком приготовления блюд разной кухни (кавказской, европейской, саамской, скандинавской), замечательным кулинаром, хорошо известным широкому окружению своим домашним хлебосольством. С видимой «легкостью» и в полевых условиях, и при организации общественных и дружеских мероприятий она брала на себя «стол» и «кухню». В полевой работе, как хорошо знают этнографы, тема продовольственного обеспечения и приготовления еды очень способствует живости общения с людьми разного возраста, пола, этнической и религиозной принадлежности. Для самой Евгении Яковлевны, надо полагать, это была, во-первых, повседневность, которая физически и эмоционально переживается по-разному в зависимости от ситуации, во-вторых, принимаемая на себя празднично-ритуальная роль, соответствующая личному качеству характера – потребности в «собирании» людей.
В случае «Кольского застолья» первичная информация, накопленная автором за годы жизни, трансформируется в целевой этнографический источник, адресованный массовому потребителю. Его можно рассматривать в качестве полевого и автоэтнографического. Рассказчица как автобиограф описывает значительную часть своего жизненного пути и на его протяжении – личный опыт межкультурных контактов в разных ситуациях, связанных с питанием. Одновременно она делится знанием о культуре народов Кольского полуострова, об истории заселения территории, создавая «краеведческий текст» со всеми его особенностями [12] и выполняя просветительскую миссию. Наконец, Е. Я. Пация выступает свидетелем и бытописателем «этнографических фактов» [4], связанных с процессом взаимной адаптации местных и приезжих, участвующим наблюдателем которого она была на протяжении десятилетий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-
Е. Я. Пация реализовала себя в разных ипостасях: как создатель и руководитель академического Музея-архива, популяризатор науки, полевой этнограф и «человек-источник» историко-культурных знаний, автор и составитель книг для самой разной аудитории, организатор и активный участник местной культурной жизни. Чем бы она ни занималась, Евгения Яковлевна собирала вокруг себя людей.
«Большая часть этнографов ими все же становится, а не рождается, и становление этнографа связано, помимо прочего, с постановкой особого видения, специфического умозрения, при котором событийный ряд обыденного течения жизни, во-первых, остраняется
-
<…> во-вторых, переозначивается в языке антропологических концепций», – пишет С. В. Соколовский [17].
Осмысливая феномен таких личностей, как Е. Я. Пация, приходишь к выводу, что если по части концептуального переозначивания обы- денности профессиональная подготовка действительно имеет первостепенное значение, то в отношении специфического видения и внутреннего, во многом интуитивного, понимания сущности вещей, вопрос остается открытым.