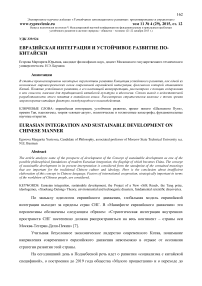Евразийская интеграция и устойчивое развитие по-китайски
Автор: Егорова Маргарита Юрьевна
Статья в выпуске: 4 (29) т.11, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы некоторые перспективы развития Концепции устойчивого развития, как одной из возможных мировоззренческих основ современной евразийской интеграции, флагманом которой становится Китай. Понятие устойчивого развития, в его настоящей интерпретации, рассмотрено с позиции содержания в нем смыслов, важных для традиционной китайской культуры и идеологии. Сделан вывод о недостаточной разработанности этого понятия в китайском языке. Рассмотрены стратегически важные с точки зрения мировоззрения китайцев факторы международного взаимодействия.
Евразийская интеграция, устойчивое развитие, проект нового "шелкового пути", премия тан, идеологемы, теория "сяокан-датун", экологические и техногенные катастрофы, фундаментальные научные открытия
Короткий адрес: https://sciup.org/14123014
IDR: 14123014 | УДК: 339.924
Текст научной статьи Евразийская интеграция и устойчивое развитие по-китайски
По замыслу идеологов евразийского движения, глобальная модель евразийской интеграции выходит за пределы стран СНГ. В «Манифесте евразийского движения» эти перспективы обозначены следующим образом: «Стратегическая интеграция внутренних пространств СНГ постепенно должна распространиться на весь континент – страны оси Москва-Тегеран-Дели-Пекин» [7].
Учитывая безусловное экономическое лидерство современного Китая, понимание направления современного евразийского движения невозможно в отрыве от осознания стратегии развития этой страны.
На сегодняшний день в Поднебесной речь идет о развитии «социализма с китайской спецификой», о построении до 2019 года общества «Малого процветания» и о переходе до
2044 года к обществу «Великого единения и гармонии». Эти модели описывают вполне самостоятельный путь развития китайского общества, принципы которого имеют крайне мало пересечений с понятийным аппаратом и образами современной европеизированной социологии и экономики.
В 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином была также выдвинута стратегия развития «Экономического пояса Великого шелкового пути». По новому «Шелковому пути» Китай пойдет вместе со всей Евразией, включая Россию.
4 сентября 2015 года Владимир Путин и глава КНР подписали соответствующий меморандум об инициативе создания российско-китайского экономического альянса развития сотрудничества. В нем подчеркивается, что «Сотрудничество в области интеграции экономического развития в рамках сопряжения программ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и программы Шелкового пути является приоритетным направлением в развитии экономик России и Китая, и будет способствовать динамическому расширению социально-экономического пространства двух стран» [14].
Вместе с тем в своей политической и научной риторике Китай обращается и к западным моделям развития. Речь идет, например, о концепции устойчивого развития, начало которой было положено еще в 1987 году Всемирной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под руководством норвежского ученого, эколога и политика Гру Харлем Брунтланд. В 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Декларация и план по глобальному переходу человечества к устойчивому развитию. Сегодня положения этой концепции, так или иначе, развиваются во всех странах мира.
В Российской Федерации на государственном уровне также принят ряд документов, нацеленных на развитие национальной стратегии устойчивого развития. Одними из первых были Указ Президента от 1 апреля 1996 года о «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» и Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации на 1999–2001 гг. В настоящее время активно развивается научная школа устойчивого развития Российской академии естественных наук (РАЕН) и кафедры устойчивого инновационного развития Международного университета природы, общества и человека «Дубна», работает международная Научная школа устойчивого развития (руководители О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков). [10, с.138-139; 3].
В Китае соответствующие стратегии сформулированы в документе под названием «Китайская повестка дня на XXI век – Белая книга о населении, окружающей среде и развитии Китая в XXI веке». В этом документе в свое время были поставлены задачи на пятилетний план (1996-2000гг.) и обозначены некоторые перспективы развития вплоть до 2020 года.
Кроме того, особый интерес для выработки эффективной для всех сторон стратегии развития евразийского пространства совместно с китайской цивилизацией, представляет анализ учрежденной в 2012 году Отделением Международной инженерной академии на Тайване (президиум МИА действует в Москве под руководством руководителя Российской инженерной академии Б.В. Гусева) всемирной научной премии Тан. Лидер этого отделения миллиардер доктор Самуэль Иен Лян Ин учредил премию в научных областях, для которых не предусмотрена Нобелевская премия. При этом денежная награда для «танских» лауреатов не только превышает нобелевский бюджет и составляет около 1 400 000 долларов США, но также имеет приложение в виде гранта на исследования в размере порядка 341 000 долларов. «Азиатская нобелевская премия», как ее сразу стали называть в СМИ, присуждается один раз в два года по четырем номинациям, одна из которых как раз посвящена концепции устойчивого развития [12].
Примечательно, что первым лауреатом премии Тан стала как раз номинант этого научного направления – ведущий идеолог концепции устойчивого развития – Гру Харлем Брунтланд. Именно под ее руководством Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию опубликовала доклад «Наше общее будущее» и предложило фундаментальное определение устойчивого развития, под которым подразумевается развитие, которое «удовлетворяет потребности нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [10].
Концепция устойчивого развития стала гениальным политическим и мировоззренческим ходом глобального масштаба. И все же, несмотря на широту охвата, являясь наследницей европейской научной традиции, эта концепция, имеет свои принципиальные ограничения для ее понимания и приятия частью мирового сообщества, в том числе для китайцев.
С точки зрения концептуальной философии Поднебесной такие понятия как sustainable development (буквально с англ. «самоподдерживающееся развитие»), «устойчивое развитие» в русской трактовке, yongxu fazhan (с кит. «вечно продолжающееся развитие») не содержат никакого сколько-нибудь значимого для китайского менталитета и политики смысла. В основе идеологии современного Китая, как и прежде, лежит конфуцианство. В принципиальные формулировки национальных идей китайские политики включают конфуцианские идеологемы, отражающие духовные ценности, действительно важные для народа и являющиеся «единицами идеологической картины мира» [9, с. 93].
Одной из наиболее глубоких идеологем, описывающих основу жизнеспособности китайской цивилизации, является «Дао». Она имеет множество абстрактных значений, таких как «путь», «истина», «поведение», «продвижение», «путь государя и Неба» и др. Кроме того огромное мировоззренческое значение для традиционной культуры Китая имеет категория «Хэ», обозначающая «согласие», «дружбу», «гармонию» как «основной принцип коммуникации, основную норму регулирования отношений между людьми, между человеком и обществом, между государствами [9, с. 93]. «Хэ» – это еще и гармония между человеком и природой: древними китайскими философами провозглашалось, что «необходимо охранять окружающую среду, только так люди могут быть счастливы и здоровы» [2, с. 58].
В 2014 году доктор Гру Харлем Брунтланн была награждена премией Тан с официальной формулировкой: «За нововведение, руководящую роль и осуществление концепции устойчивого развития, которая представила мировому сообществу научные и технические проблемы в достижении лучшего баланса экономического развития, целостности окружающей среды и социального равенства в интересах всего человечества» [17].
В этом тексте, казалось бы, содержатся крайне важные постулаты для всего современного человечества. Однако в действительности в этой риторике китайской стороны, как и в прочих текстах про устойчивое развитие, отсутствуют идеологические смыслы и идеологемы хоть сколько-нибудь значимые для самих китайцев, которые бы отражали их действительное отношение к миру, государству, нации, природе.
Кроме всего прочего, принципиальным для традиционной китайской культуры является глубокая вера в подчинение движений цивилизации циклическим сменам повторяющихся этапов развития и опора при принятии важных решений на знания об этих циклах. В китайском переводе устойчивого развития как «вечного» эта специфика также не находит никакого отражения.
Значительный пласт современной социально-экономической мысли разных стран мира описывает движение социальных систем по циклическим закономерностям. С этой точки зрения любая действенная стратегия развития общества не может быть построена без учета циклов перемен. Соответственно, чем более точны знания о них, тем надежнее прогноз и проект достижения желаемого будущего.
Существует ряд социально-философских парадигм, в том числе и российского происхождения, например циклы Кондратьева, которые описывают циклическую природу общества и закономерности его развития. Каждая из них помогает нам ориентироваться в будущем, что обуславливает популярность этих парадигм в современном обществоведении. Вместе с тем, по нашему убеждению, незаслуженно мало внимания со стороны мировой общественности сегодня уделяется прогнозным и проективным традициям Китая, основанным на циклах. Мир активно пытается заимствовать китайские стратагемы, но преимущественно этим все и ограничивается.
У Китая, имеющего богатую историю и философию, есть, что предложить Евразии. В этой связи определенный интерес представляет привлечение нетрадиционных (для европейского мировоззрения) источников знаний. Огромным познавательным и практически полезным потенциалом, с нашей точки зрения, обладают Канон перемен событий (включая «коды перемен», «законы перемен») и исторические закономерности развития Китая. Причем не только и не столько для самого Китая, сколько для всего мира.
В любом случае, для того чтобы говорить с Китаем на одном языке и более менее на равных с ним взаимодействовать, странам евразийского пространства, необходимо уметь переводить свою повестку дня на язык, образы и символы понятные и важные для китайцев. Не является исключением в этом плане и совместная разработка и реализация каких-то положений концепции устойчивого развития. В китайской традиционной культуре содержится много ценностных установок, которые служат основанием для долговечного «устойчивого» развития одной из самых древних цивилизаций.
Можно, конечно, лишь гадать об истинных намерениях учредителей премии Тан. Это и сильный политический ход против западных конкурентов, в результате которого, в частности, принижается статус многих ведущих международных научных премий, в том числе премии Нобеля. Это и попытка отдельной самостоятельной номинацией популяризировать в мировом масштабе синоведение. Помимо прочего – это еще и установка на поиск, создание и внедрение новых инструментов, которые помогли бы китайскому обществу перейти на новый этап процветания и благополучия.
Подобный исторический переход в своем развитии Китай уже когда-то совершал. В народной памяти китайцев эта эпоха прочно ассоциируется с «золотым веком» правления династии Тан. Не случайно в современном Китае для привлечения духа «золотого века», успеха и расцвета дел предприниматели вписывают в названия своих магазинов, гостиниц и прочих заведений иероглиф «Тан».
Идейно-теоретической основой современного развития Поднебесной выступают традиционные концепции «малого процветания» («сяокан») и «великого процветания и единения» («датун»). Конфуцианский канон определяет историю «Срединного государства желтых людей» (Китая) как циклический процесс переходов общества из состояния «хуньдунь» («хаоса») в состояние «сяокан», а затем, желательно, и в состояние «датун» – общество идеального состояния. Строительство в Китае общества «малого процветания» положено в основу многих государственных и партийных документов.
Изучая исторические подсказки прошлого китайские политики пытаются в настоящее время формировать предпосылки поворота страны в сторону общества «датун» [13]. Поскольку альтернативный путь развития – это падение в «хаос» и «развал». Руководство страны понимает, что оскудение и духовная пустота влекут за собой потерю «мандата Неба» на правление. Поэтому если ранее в концепции «сяокан» ориентиры развития общества рассматривались преимущественно с точки зрения экономической пользы, то сегодня на первый план выступает «духовное развитие, а также гармония между человеком и обществом, человеком и природой, внутренняя гармония человека с самим собой» [1, с. 1718]. Современные китаеведы говорят об ориентации Китая на «расцвет Новой Тан» [13].
Возвращаясь к теме устойчивого развития в понимании китайцев, можно предположить, что попытки разобраться в этой концепции (например, в рамках той же самой премии Тан) отражают стремление китайцев преодолеть современные противоречия Китая в системе «общество – природа». Не вызывает сомнения, что именно экологические интенции концепции устойчивого развития наиболее близки китайцам, поскольку стабильность государственной системы управления в Китае во все исторические времена была напрямую связана с умением общества противостоять природным катаклизмам и их последствиям.
Естественно, что такие экологические проблемы, как загрязнение воды и воздуха, эрозия и истощение почвы, разные природные бедствия присущи не только Китаю и распространены повсеместно, и в огромном количестве по всей территории Евразии. Однако в Поднебесной в отличие от большинства стран Европы и Азии обуздание стихии носит глубокий мировоззренческий и принципиальный политический характер.
На протяжении всей многовековой истории Китая природные катастрофы заканчивались не просто гибелью людей, неурожаям, голодом, эпидемиям, но и влекли за собой негативные политические и социально-психологические последствия: подрывали доверие народа к правителям, приводили к общественному недовольству и восстаниям.
Многие политические реформы оказались в свое время тщетны как раз из-за неспособности властей обезопасить общество от экологических угроз.
На протяжении всей человеческой истории природные катастрофы и их разрушительные последствия представляли собой серьезный риск для сохранения социальной и экономической стабильности. Однако со времен средневековья начинают все более отчетливо проявляться принципиальные различия в социальной реакции европейского и китайского общества на стихийные бедствия. Так в понимании сути катастроф народами Европы отсутствовала идеологическая и политическая подоплека. В народном мировосприятии не было причинно-следственных связей между страданиями от разгула стихии и ошибками правителей. Более того, страдания трактовались как ниспосланное свыше испытание и божественное наказание людей за греховность.
В тоже время китайское общество в соответствии с глубокими патриархальными традициями возлагало на власть всю ответственность его за материальное благополучие и защиту. Правитель отвечал и за устранение последствий стихийных бедствий и даже был обязан предупреждать возможные угрозы. В этом заключались основные условия «сохранения устойчивости политической власти, социального порядка и экономической стабильности». Как отмечают современные исследователи, тема успешного противодействия природной стихии нередко использовалась властями Китая для самопиара [6]. Например, благодаря широкому освещению в прессе ликвидации последствий катастрофического наводнения на реке Янцзы в 1998 году авторитет армии и доверие к правительству в обществе значительно возросли [6].
Последствия любого крупного стихийного бедствия в Китае и сегодня выходят за рамки экологической проблематики. В последние годы ученые предупреждают об опасной тенденции роста ущерба от стихийных бедствий в Поднебесной, в результате расширения территории их распространения и увеличении частоты возникновения.
В период с 1991-2009 гг. в результате только различных метеорологических бедствий в среднем в год погибало 3973 человека, количество пострадавших составляло 400 млн. человек, пострадало также 48,4 млн. га посевных площадей. Отмечается увеличение и геологических катастроф (землетрясений и оползней), последствия которых гораздо более масштабные и печальные чем от атмосферных катаклизмов [6].
Только за первый квартал 2014 года природные катастрофы принесли 900 миллионов долларов ущерба [16]. Поэтому одним из приоритетных направлений китайской политики на сегодняшний день является развитие системы противодействия экологическим катаклизмам.
По сути технологии противостояния человечества природным и техногенным бедствиям, повышающие устойчивость государственных систем, – одни из главных технологий способствующих переходу общества в «датун».
На этой ниве борьбы с всевозможными катастрофами могло бы строиться и развиваться актуальное направление евразийского стратегического взаимодействия, так как многие другие государства сегодня заинтересованы в поиске технологий предупреждения и устранения экологических и техногенных угроз. Флагманом развития этой темы, как и многих других социально-экономических вопросов в мире, выступает Китай. Но, пожалуй, сфера «экологии» или экологической составляющей устойчивого развития может стать одной из немногих, в которой люди с европейской картиной мира смогут находить общий язык и искренний отклик в сердцах китайских политиков с наименьшими, чем в остальных вопросах, интеллектуальными затратами.
Очевидно, что в современных условиях невозможно построить внутренне гармоничное общество без выстраивания гармоничных отношений с внешним миром. Однако для Поднебесной понимание социально-политической гармонии также полно традиционной «китайской специфики». В соответствии с ней, гармония подразумевает ранжирование, классификацию, распределение по статусам и иерархиям всего и вся. Главный критерий в данном случае – соответствие движения пути Дао. Толкователями Дао признаются представители высшей власти, априорно обладающие в силу занимаемого ими места «мандатом Неба» на провозглашение и установление принципов гармоничного социального устройства.
В традиционной картине мира китайцев можно выделить следующую систему субъектов политического взаимодействия: «мы сами», «наши союзники» и «наши враги». Естественно, что каждой страте соответствует своя собственная стратегия поведения. Например, обидчика всегда ждет отмщение. Но месть осуществляется таким образом, что враг может долго и не догадываться о не дружелюбности того или иного китайского маневра. Наказание считается неотвратимым, но осуществляться оно должно, в первую очередь, максимально мирными средствами (тактиками «мягкой силой», «удушения в объятиях»).
Поскольку Китай в своих представлениях занимает центр, то весь остальной мир от него отстоит примерно одинаково. Помимо центра на ментальной карте мира Поднебесной есть и другие стороны света. Но они не соответствуют современным географическим ориентирам (например, Россия согласно китайским представлениям занимает «Восток») [4].
В такой ситуации евразийское пространство само по себе для Китая не представляет большой ценности. Более того, на многих ярких представителей мировой окраины (включая США, Японию, Германию, Францию, Италию, Россию и т.д.) китайцам есть за что «обижаться» и мстить.
Концептуальность китайской мечты заключается помимо всего прочего и в переносе своих стратегических границ за пределы национальной территории (например, в рамках проекта создания нового «Шелкового пути» под названием «Один пояс и один путь», см. рисунок ниже) и установление глобального лидерства. В этом для Китая, с точки зрения его исторической традиции и современной политики, по большей части и состоит смысл современной евразийской интеграции.
Выстраивание с Китаем гармоничных и добрососедских отношений в рамках евразийского движения подразумевает для России и остальных стран, в первую очередь получение в китайской ментальной картине мира статуса достойного уважения. Например, по модели «семьи народов», где по аналогии с китайской семейной традицией, младшие чтят старших, а старшие защищают младших и т.д. [5].
В любом случае, как бы то ни было, Китай во всех иерархиях будет отводить себе центральное место «пупа Земли», место лидера цивилизационного развития, за которым и вокруг которого в соответствии с витками Перемен естественным образом могут устремлять свое развитие остальные государства. Таким образом, Великое единение мира, для начала хотя бы в рамках евразийского пространства, с сохранением уникальности его субъектов, а также с идентификацией их статуса (социального, культурного, мировоззренческого) – может стать в представлении китайцев одним из принципов глобального устойчивого развития человеческой цивилизации в соответствие с «волей Неба» (Дао).
Однако если в китайском обществе что-то пойдет не так (не дай Бог, в результате стихийных бедствий, социальных волнений, утраты обществом традиционных духовных основ), это будет означать, что правитель Китая потеряет «мандат Неба» на правление, а период «сяокан» утратит Дао и общество соскочит на виток «хаоса» и развала.
По мнению экспертов Российской инженерной академии, кроме всего прочего современное общество «стало заложником всеобщего системного кризиса, в основе которого острый дефицит времени осмысления критических гомеостатических процессов, приводящих к трагическим последствиям. Устранить дефицит времени для принятия адекватных управленческих решений и реализации эффективных мер предотвращения экотехнологических катастроф возможно только на основе фундаментальных научных знаний, глубокого понимания физики причинно-следственных процессов природнотехнических систем (ПТС) и достоверной информации об этих процессах». [15, с.152]
Одним из путей удержания Дао, с дальнейшим его постижением и переходом общества в «датун» является создание новых Знаний о мире – фундаментальных научных открытий. Глубинное постижение природы материи, открытие новых физических принципов, новые грани природной математики приближают общество к пониманию гармонии Природы и, соответственно, самого Дао. Благодаря таким знаниям возрастают возможности не только для построения новой более комфортной и безопасной техносферы, но и для усовершенствования картины мира, а также для создания новых социальных технологий, гармонизирующих жизнь человечества [8].
В этой связи разработка, популяризация и внедрение эпохальных инноваций и новых философских концепций мироздания (являющихся для всего информационного поля транскультурными и метасистемными) могли бы стать дополнительным фактором взаимовыгодной интеграции субъектов Евразийского пространства от России до Китая.
Поиски таких знаний необходимо стимулировать, прорывные научные результаты должны получать всестороннее признание и поддержку, в том числе посредством выдвижения на премию Тан и другие, значимые в мировом масштабе конкурсы. Однако, к сожалению, научные открытия практически во всем мире не охраняются законом, а их защита (хотя бы авторского права) целиком и полностью ложится на плечи заинтересованных лиц и зависит лишь от их способностей что-то защитить. Следовательно, когда речь идет о развитии значимых для человечества научных достижениях, заботу о его создателях должны брать на себя настоящие политические тяжеловесы на уровне государственной власти.
http://portal-kultura.ru/articles/best/47576-kitaist-andrey-devyatov-svyataya-rus-i-kitay-kogda- to-zhili-v-odnom-gosudarstve/
Список литературы Евразийская интеграция и устойчивое развитие по-китайски
- Бальчиндоржиева О.Б. Модернизация китайского общества: социально-философский анализ. Автореферат дис. докт. филос. н. - Улан-Удэ. 2015.
- EDN: XBEMUY
- Бальчиндоржиева О.Б. Социальная гармония в китайской философии / Вестник Томского государственного университета. 2015. № 391. С. 58-63.
- EDN: SZSPHC
- Большаков Б.Е. Наука устойчивого развития. Книга I. Введение. - М.: РАЕН, 2011. - 272 с.
- EDN: QOOFOB
- Девятов А. Красный дракон. Китай и Россия в XXI веке. - М.: Алгоритм: Алгоритм-книга, 2002.
- Девятов А. «Святая Русь и Китай когда-то жили в одном государстве». Газета «Культура. Духовное пространство русской Евразии»: 17.06.2014 [Электронный ресурс]. - URL: http://portal-kultura.ru/articles/best/47576-kitaist-andrey-devyatov-svyataya-rus-i-kitay-kogda-to-zhili-v-odnom-gosudarstve.