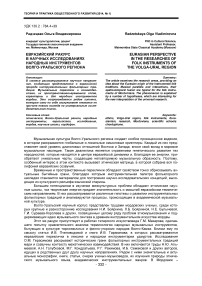Евразийский ракурс в научных исследованиях народных инструментов Волго-Уральского региона
Автор: Радзецкая Ольга Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются научные направления, создающие представление о евразийской природе инструментальных фольклорных традиций. Музыкальные параллели и взаимодействия, их пространственно-временной сплав, характерны и для народных инструментов мордвы. Это сопровождается рядом гипотез, которые сами по себе заслуживают внимания по причине нового взгляда на универсальные исследовательские поиски.
Этнический, волго-уральский регион, народные инструменты, евразийство, исследования, мордва, научные школы, хордофон
Короткий адрес: https://sciup.org/14935804
IDR: 14935804 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Евразийский ракурс в научных исследованиях народных инструментов Волго-Уральского региона
Музыкальная культура Волго-Уральского региона создает особое проекционное видение, в котором раскрываются глобальные и локальные смысловые ориентиры. Каждый из них представляет свой уровень диалоговых отношений Востока и Запада, внося свой вклад в мировое музыкальное наследие. Такая диалектика является отражением генетического развития тех народностей, которые находятся в центре евразийской динамики и, благодаря ее энергии, приобретают уникальные черты, создающие неповторимую музыкальную образность. Поэтому, особенный интерес в этом контексте вызывает этническая матрица, в которой собрана вся полифония евразийских созвучий.
Временные и пространственные переклички обладают свойством тонко обрисовывать актуальные бытийные грани, благодаря которым инструментальная палитра фольклорного наследия становится материалом для построения научно-исследовательских концепций, выходящих из культурного рельефа языческой старины.
Большим потенциалом в изучении межкультурных проблем обладают этнические научные школы, чья творческая энергия придает значительность и масштаб евразийским тематическим направлениям. В них рассматриваются различные гипотезы о развитии инструментальных фольклорных традиций и анализируются процессы, происходящие в академической музыкальной культуре.
Волго-Уральский научный корпус представлен трудами мордовских ученых, среди которых крупные и разносторонние исследования Н.И. Бояркина, Л.Б. Бояркиной, Н.Е. Булычевой, Г.И. Сураева-Королева и других, посвященных целому ряду проблем этномузыкознания и поддерживающих идею музыкального синтеза в древнем инструментальном искусстве мордвы.
Этот же ракурс присутствует в работах татарского искусствоведа Г.М. Макарова, сделавшего попытку сравнительного анализа терминологии народных музыкальных инструментов, бытующих в культуре тюркоязычных и финно-угорских народов Волго-Камья. Близки ему по смыслу статьи И.В. Пчеловодовой и книги И.В. Тараканова, в которых рассматриваются евразийские переклички в лексике и народном инструментарии удмуртов. Исследования О.М. Герасимова раскрывают исторические грани фольклорных инструментальных традиций мари и созвучны контексту межэтнических взаимодействий. В них включаются труды Н.Ю. Аль-меевой, А.Н. Голубковой, М.Г. Кондратьева, Р.Г. Рахимова, И.Б. Семаковой и других авторов, идущих в родственных друг другу научных направлениях. Рядом с ними значительные и актуальные монографии, книги, статьи, очерки ученых-музыковедов, их изучения природы этнического музыкального языка, академических инструментальных жанров. В Мордовии – - 332 - это Н.И. Бояркин, И.А. Галкина, А.И. Макарова, Н.М. Ситникова; в Удмуртии – И.Н. Греховодов, Ю.Л. Толкач, Е.Л. Хакимова, Р.А. Чуракова; в Марий Эл – О.М. Герасимов, Л.В. Казанская, А.А. Кондратьев, М.Н. Мамаев, Л.А. Новоселова, Ю.Ю. Цыкина; в Башкирии – Н.В. Ахметжанова, Н.Ф. Гарипова; в Татарстане – Ш.Х. Монасыпов, В.М. Спиридонова и другие.
Находясь в контексте евразийских научно-исследовательских прочтений, интересным примером в Волго-Уральском регионе выглядит корпус фрикционных хордофонов, к числу которых относится и мордовская скрипка – гарзе, стрепка (мокш.) и кайга (от эрз. гайгемс – звенеть). Скрипка, как народный инструмент, имеет широкую этническую географию. Она гармонично входит в фольклорные миры как финно-угорских, так и тюркоязычных народов – татар и башкир. К примеру, этимология слова гарзе , как считает Н.И. Бояркин, «восходит к пермско-финноугорскому курезь (“музыкальный инструмент” или “музыкальное исполнение”)» и распространяется в родственных этнических группах: у мари в горномарийском диалекте как кюсле, кярш, кярм , перекликаясь по своему типу с финскими и карельскими струнно-щипковыми кантеле. Прослеживаются взаимосвязи с удмуртскими названиями крезь , кырез и коми – крезь си [1, c. 72–73].
Евразийский колорит в корпусе фрикционных хордофонов можно ощутить при детальном обращении к их конструкции, на что делает акцент И.Б. Семакова. Включая в круг научной информации материал, собранный С.Н. Кунгуровым, она развивает мысль о том, что есть все предпосылки считать основным местом возникновения данных инструментов Центральную Азию по признаку строения подставки под струны, которая была цельной и имела мостообразную форму. «Именно в таком виде фрикционные хордофоны были заимствованы кочевыми народами Азии, этносами Китая, Индии, Междуречья, Европы, а также самостоятельно финноугорскими народами Сибири, Поволжья, Северного Урала и, вероятно, карелами и древними новгородцами» [2, c. 104; 3].
Обращение к специфике и бытованию этого инструмента вызвано появлением различных мнений о ее автохтонном происхождении. И.Б. Семакова рассуждает о том, что «сомнение об аутентичности в традициях мордвы вызывает единственный фрикционный хордофон – скрипка. Не исключено, что скрипка либо заменила ранее существовавший аутентичный хордофон мордовского народа (так произошло, например, у марийцев, чувашей, татар, финнов, карелов, эстонцев и других народов), либо была заимствована и адаптирована в собственной этнокультурной среде в достаточно позднее время» [4].
В мордовской народной музыкальной терминологии есть звукоподражательные слова, которые по слуху ассоциативно приближаются к звучанию того или иного инструмента. На этот факт обращает внимание Л.Б. Бояркина, показывая возможные сочетания, в которые вошли следующие формулы: « гай-гай, горь-горь (звучание баягинеть, пайгонят - колокольчиков), дель-дер, дири-дири (звучание струнных смычковых инструментов), калцт - калцт, кальхцьк - кальхцьк (кальцаемат – тип ксилофона) и т.д.» [5, c. 121]. Одной из фонетических характеристик, близкой к мордовской скрипке, видятся созвучия гай-гай и горь-горь , выходящие за пределы звукового ряда колокольчиков – идиофонов. Н.И. Бояркин говорит о едином смысловом источнике в языковой среде мокши и эрзи, где корень гай связан с разными инструментами – идиофоном пайгонят и однострунным хордофоном гайдяма/гайтияма .
В дополнение, важные подробности этого научного диалога содержит исследование Н.И. Бояркина, который подробно остановился на особенностях возникновения и распространения гарзе/кайга в музыкальной жизни мордовского этноса. Одна из возможных версий появления в мордовском фольклоре скрипки относится к культуре немцев Поволжья по близкому смыслу и произношению – die Geige (скрипка – немецкий язык), но опровергается ученым по факту ее более раннего появления в истории, в частности, у эрьзи [6]. Он считает, что этот инструмент является непременным атрибутом фольклорного наследия мордвы, символом ее яркой музыкальности, поскольку имеет древнюю и преемственную традицию. Это является одним из характерных штрихов, способствующих восприятию данного явления как этнической скрипичной школы, имеющей исполнителей, обладающих профессиональным мастерством и сохраняющих колорит мордовской инструментальной музыки.
В этом направлении родственные характеристики можно найти и в описании роли и значения башкирской скрипки для тюркоязычных традиций Волго-Уралья. Причем, сходство ее инструментальной фактуры с мордовской гарзе/кайга основывается на тяготении к многоголосному ведению музыкального материала. Р.Г. Рахимов замечает, что «современное исполнительство демонстрирует массовые случаи проявления многоголосных элементов как явных структурных, так и латентных ритмоартикуляционных». А также, проводя записи игры на скрипке в этнографических экспедициях, пишет о том, что «несмотря на нашу просьбу играть без бурдо-нирующего захвата открытых струн, исполнитель не удержался от использования наигранных вариантов с открытыми струнами в устоях и полуустоях наигрыша» [7, c. 121–122].
Благодаря региональным интеллектуальным практикам становится возможным ощутить пространственно-временную динамику и своеобразие процессов культурного синтеза в камерно-инструментальной и ансамблевой музыке Мордовии. Создание научно-исследовательского объема позволяет представить этническую инструментальную культуру как явление, в котором отразилась первозданная природа древнего музыкального сознания и мышления, основанная на пространственно-временном диалоге Востока и Запада.
Таким образом, данный контекст интересен с точки зрения сложившихся историкокультурных оснований, формирующих ассоциативные восприятие двух музыкальных пространств – западного и восточного, как взаимообусловленных величин, дополняющих друг друга в едином смысловом масштабе евразийской доминанты.
Ссылки:
-
1. Бояркин Н.И. Мордовская народная музыка: многоголосные инструментальные традиции: учеб. пособие. Ч. 1. Саранск, 2004. 140 с.
-
2. Семакова И.Б. О проблемах развития традиционных смычковых хордофонов финно-угорских и соседних с ними народов // Ежегодник финно-угорских исследований. Вып. 3. Ижевск, 2010. 160 с.
-
3. Кунгуров С.Н. Удмуртские традиционные музыкальные инструменты. Ижевск, 1994. 29 с.
-
4. Семакова И.Б. Указ. соч. С. 97.
-
5. Бояркина Л.Б. Хоровая культура Мордовии: фольклор, традиции и современность: энцикл. справ. Саранск, 2006. 272 с.
-
6. Бояркин Н.И. Указ. соч. С. 72–73.
-
7. Рахимов Р.Г. Башкирская народная инструментальная культура: этноорганологическое исследование. Уфа, 2010.
188 с.