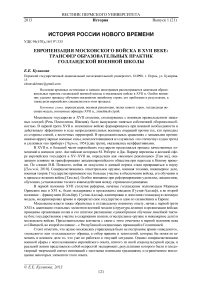Европеизация московского войска в XVII веке: трансфер образовательных практик голландской военной школы
Автор: Куликова Елена Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История России нового времени
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
На основе архивных источниках и записок иностранцев рассматривается адаптация образовательных практик голландской военной школы в московском войске в XVII в. Особое внимание уделено процессу обучения московитов линейному строю, его проблемам и результатам, а также роли европейских специалистов в этом процессе.
Европеизация, военная революция, полки нового строя, голландская военная модель, иноземные офицеры xvii в, линейный строй
Короткий адрес: https://sciup.org/147203444
IDR: 147203444 | УДК: 94(470)„16/19”:335
Текст научной статьи Европеизация московского войска в XVII веке: трансфер образовательных практик голландской военной школы
Московское государство в XVII столетии, столкнувшись с военным превосходством западных соседей (Речь Посполитая, Швеция), было вынуждено заняться собственной обороноспособностью. В первой трети XVII в. московское войско формировалось при военной необходимости и действовало эффективно в ходе непродолжительных военных операций против тех, кто приходил со стороны степей, с восточных территорий. В продолжительных сражениях с западными противниками иррегулярные военные силы, комплектовавшиеся из служилых «по отечеству» (одна треть) и служивых «по прибору» [ Чернов , 1954] (две трети), оказывались неэффективными.
В XVII в. в большей части европейских государств продолжался процесс качественных изменений в военном деле. Английские историки М. Робертс и Дж. Паркер перемены в военной сфере европейских государств в XV–XVII вв. определили как «военную революцию» [Там же], оказавшую влияние на трансформацию западноевропейского общества при переходе к Новому времени. По словам В.В. Пенского, война из искусства в данный период стала превращаться в науку [ Пенской , 2010]. Совершенствовались огнестрельное оружие, военная техника, инженерное дело, военная теория. Государство принимало все большее участие в обеспечении войска, его обучении и в процессе ведения войны [Там же]. Особое внимание при реформировании уделялось дисциплине, обучению, установлению тесного взаимодействия между строевыми единицами.
В первой половине XVII столетия реформы, начатые голландским полководцем Морицем Оранским еще в XVI в., были поддержаны и продолжены шведами (Густав-Адольф), а во второй половине – французами (Кольбер). Густав-Адольф, адаптировав и дополнив голландскую военную модель, модернизировал армию и превратил свое государство в одно из сильнейших в Европе.
Московские власти также обратились к голландскому военному опыту, начав с первой трети XVII в. адаптацию отдельных элементов военной модели (структура деления и организации войска; принципы организации полка и его штатное расписание; единообразное обучение линейной тактике боя; государственное участие в содержании полков; огнестрельное оружие и инженерное дело) в московском войске. Продолжительные контакты с связи с этим отмечены в первой половине века со Швецией, во второй половине – с Республикой соединенных провинций и Голштинией.
Стоит отметить, что целью московских управленцев было не построение армии «шведского», «польского» или «голландского» образца, а отбор практик и технологий, которые бы помогли заменить в военном деле то, что уже не работало в текущей ситуации. Однако совершенствование военной сферы с использованием европейского опыта, взятого из иной социокультурной среды, в реальной жизни представляло собой непростой эксперимент, результатами которого были и плодотворный творческий синтез инноваций с местными военными традициями, и ограниченное воплощение некоторых элементов этого опыта.
Исследование вопроса показало, что одной из наиболее инновационных и эффективных практик в военном деле, заимствованных из Европы, было обучение военных. Эффективность голландской тактики была прямо пропорциональна степени дисциплинированности и выучки рядовых рейтар и опытности их офицеров. От качества тренировки и знаний инструктора напрямую зависела боеспособность войска. Ключевую роль в европеизации всего военного дела в Московии до конца XVII столетия играли квалифицированные иностранные военные.
Численность европейцев на русской службе в «послесмутное» время колебалась в зависимости от военных действий с соседями. По данным Е.Д. Сташевского, взятых книг и столбцов Иноземного и Разрядного приказа, «в 1627 г. служили 126 поместных и 169 кормовых немец из числа московских иноземцев» [ Орленко , 2004, с. 45]. Во время Смоленской войны (1632–1634 гг.) в Россию въехало около 3800 немецких наемников [Там же, с. 46]. Согласно росписи дъяка приказа Ивашки Гурцова 16 ноября 1652 г., «немец поместных и кормовых»1 старого и нового выезда было «429 человек»2, «немец поместных и кормовых которые посланы на государеву службу в заонеж-ския погосты и в сумерскую волость для драгунского и салдацкого учебы»3 – 127, «немец которые на государеве службе в городех»4 – «108 человек»5, а также «тулског другунского строю началных людей 27 человек»6, итого 691 человек, что составляло примерно 30 % от всех иноземцев («2283 человека»7), включавших помимо «немцев» «гречан и поляков и литве и черкас и дневпровских и смоленских атаманов и казаков и салдат и черкеских крестян»8. К концу столетия в связи с заключением Андрусовского перемирия и Бахчисарайского мирного договора число иностранных военных в русском войске сократилось до 381 [ Лаптева , 1994, с. 119–120].
В московскую службу нанимались как представители благородных родов, имевших отличную репутацию, настоящие рекомендации и образование, так и авантюристы без образования, с простым происхождением. Полковник, а впоследствии генерал на московской службе шотландец П. Гордон в своем «Дневнике» не раз давал нелестные отзывы собратьям по ремеслу: «Люди дурные...» [ Гордон, 2002], «...раньше они получали хорошее, даже богатое жалованье, но теперь уже нет; они сами его прошляпили частично из-за дурной, порочной жизни, частично из-за других дурных дел» [Там же]. Шлейссингер отмечал, что «знал таких лейтенантов и прапорщиков, даже капитанов и других, которые мало или вообще ничего не понимали в военном деле» [ Шлейссингер, 1970].
В то же время документальный материал показывает, что московские власти серьезно относились к процессу поиска, отбора и проверки знаний прибывших военных, привлекая европейских офицеров в качестве консультантов. Одним из примеров этого может служить письмо голландского полковника «Иисака Фан Буковена»9 к боярину И.Д. Милославскому о том, «…как всяких чинов урядников допросит про ратное учене …»10. Согласно документу, составленному в форме вопросов и ответов, для успешного прохождения экзамена и получения соответствующего опыту и знаниям жалованья и чина («от капрала до саржанта и до прапорщика и поручика»11) иноземным военным необходимо было знать следующее: «Что салдату пододбает первее всего ученья ведать»12, «чем ему возвышения чину своего дослужитца»13, «что подобает рейфрейтору…»14, «каким обычаем в роте в поход идти как в роте будет сто пятьдесят человек и больши»15, «что есть устав и спроме-жутки салдатские и как их называют в походех и учене»16, «для чего розтупной промежуток учат и к чему то угодно»17 и др. Помимо этого, «от капрала и до полковника» требовалось показать понимание специфики своего чина: «Что чины их обдезжат и для чего их такими чинами называют»18. В свою очередь, «капитану и моеру и подполковнику и полковнику подобает…»19 не только быть знакомым с теорией, но еще и владеть «всяким оружием (мушкетом) и пикой и алабадом (оторвано) менем и партазаном … (оторвано) и роте всякому ратному строю … (оторвано)»20. Если же при проверке кандидат не давал качественного ответа на обозначенные вопросы, то «тому в таком большому чину не подобает быть»21.
Европейские полковники, зарекомендовавшие себя на службе у московского царя, оказывали помощь в оценке качества навыков вновь прибывших военных. Согласно сохранившимся документам из Разрядного приказа 28 июня 1651 г., «по свидетелству полковников старшего Александра Лесли и Исака фан Буковена и Александра Крафарета и Филипеса Арбатуса фан Буковена и подполковника Якова Урвина»22, «на поле»23 смотрели «немец новог выезду полковника Гана Бутлера и иных полковых и ротных началных людей»24. Проверив их опыт в «ратном ученье и строенье»25, владении мушкетом и пикой, полковники из комиссии И.Д. Милославского давали собственную оценку, протоколируемую писцами. Так, по поводу полковника Ягана Бутлера А. Лесли и А. Кра-ферт сказали, «что он Яган стареет а учение знает»26, а относительно рейтарского строя ротмистра Лоренцо Мартот»27 консультанты заключили, «что он достаточно всему ратному делу горазд»28.
Документы Разрядного приказа о расспросах дьяками приезжих европейских военных подтверждают наличие у последних реального опыта службы в полках линейного строя. Например «подполковник Кашпир Ясдер»29 «служил це <сарю> в салдатском строе кап<итаном> 10 лет против швецких <людей> а после тово служил дац <кому> королю капитаном же 2 годы против <швецких > же людей а после тово служил в цесарской земле князю … подполковником»30. Из остальных семь прибывших военных в январе 1653 г., пять человек воевали против «цесарских»31 людей, один против «свейских»32 и еще один «против шпанских и турских»33. Опыт службы другим королям в полках солдатского строя составлял от 2 до 10 лет.
Очевидно, что царское правительство не было готово тратить значительные суммы на содержание военных, которые не обладали необходимыми умениями. Отбор происходил из ограниченного числа европейских военных, готовых приехать в Московское государство, что, конечно, ограничивало возможность получения первоклассных специалистов, но не исключало этого.
Противоположность оценок Гордона, других европейцев и реальной ситуации определялась в разными подходами и спецификой задач, которые ставило перед собой царское правительство. Если для Гордона, как представителя голландской военной школы, были важны не только знания военной теории в области организации линейного строя, но и понимание начальными людьми тактических и стратегических приемов, необходимость организации инженерных работ, а также соблюдения кодекса нравственного поведения, соответствующего чину, то для московитов наиболее важным представляло приобретение навыковвладения оружием и знания иноземного строя. Вопросы управления и стратегии являлись прерогативой местной военной элиты.
Московские власти довольно успешно использовали опыт отобранных иноземных военных для формирования собственного корпуса квалифицированных специалистов, занявшись с 1630-х гг. их подготовкой. Голландский полковник И. фон Бокховен первым начал тренировку «начальных» людей из дворян и детей боярских для новых полков конного и пешего строя [ Малов , 2006, с. 50]. Запущенный процесс привел к тому, что со второй половины столетия передавать знания и навыков линейного строя стали и московиты. В 1681–1682 гг., по подсчетам Чернова, иноземцы, находившиеся на московской службе, составляли 10–15 % всех «начальных» людей русского войска [ Чернов , 1954].
Единой программы обучения не существовало. Можно предположить, что европейские военные руководствовались двумя уставами («Устав ратных, пушечных и других дел» 1607 и 1621 гг.; «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г.), требованиями московского правительства и личными знаниями.
Помимо навыков иноземного строя, владения оружием и дисциплины воины в результате тренировок должны были показать свое умение в производстве массированного артиллерийского огня и строительстве полевых укреплений. От них также требовалась взаимная поддержка в службе «делом и разумом» [ Малов , 2006, с. 50].
Регулярность занятий зависела от военной ситуации. Гордон вспоминал, что, приступив к службе в Москве в 1661 г., он получил в распоряжение 700 бывших беглых солдат, которых он обучал «дважды в день … при ясной погоде» [ Гордон , 2002]. В другой же раз ему было поручено обучить правильной залповой стрельбе 1200 человек за пять дней к царскому смотру: «Я с офицерами обучал их на Неглинном ручье от рассвета до темноты, давая лишь час в полдень на обед» [Там же]. Успех обучения напрямую зависел от интенсивности муштры и те «начальные» люди, которые понимали это, добивались отличных результатов.
При обучении использовались боевое оружие, порох и все необходимые материалы для ведения полноценного боя, что говорит о попытке максимально приблизиться к военной ситуации. В «Актах Московского государства» сохранился весьма интересный документ, датированный 21 августа 1653 г. В нем полковник А. Кроуфорд, отвечая на запрос из Москвы о количестве пороха, свинца, фитиля и прочих боеприпасов, необходимых для оснащения и обучения четырех солдатских полков (примерно 8700 солдат и офицеров), писал в столицу, что на месяц только в мирных условиях пороху нужно было выдавать более 3,5 тонн, «а меньше того на месяц пороху держать немочно, покамест всему ученью выучатся салдаты…» [Акты Московского государства, 1899, c.
335–336.], фитиля почти 1,5 тонны, свинца 3 тонны, да еще 80 «фурм долгих, во что лить мушкетные пульки, по 5-ти и по 6-ти пулек вдруг лилось…», 2000 заступов, 2000 лопат, 80 ломов, 200 кирок, 400 топоров, 1500 подвод «…с хомуты, и с дугами, и с возжами, и с веревками, и к телегам мазь…» [Там же].
В Московском государстве организация обучения воинскому делу, как для иностранных инструкторов, так и для местного населения оказалась непростой. Его тормозили отсутствие мотивации, теоретической подготовки, а также материальных условий.
Долгое время неприятие новшеств отмечалось со стороны поместной конницы, положение которой менялось в связи с приходом полков иноземного строя. Иностранные военные получали высокое содержание, привелегии и должны были обучать тех, кто считался до этого элитой войска. По мнению С.А. Нефедова, дворянская конница, покинув самовольно в 1633 г. лагерь под Смоленском, оставила новое войско на истребление врагам и необоснованно требовала казни ни в чем не повинного полководца Шеина, вынужденно подписать в сложившейся ситуации акт капитуляции с Речью Посполитой [ Нефедов , 2004]. Нефедов в своем исследовании упомянул факты требования со стороны дворян удаления иностранных офицеров, в том числе на Земском соборе 1648 г., а также отказа подчиняться голландским офицерам [Там же].
Кроме того, традиционным, не только для московского войска, были отсутствие дисциплины, употребление алкоголя, драки, азартные игры, вымогательства и прочие нарушения запретов [ Гордон , 2002]. В «Дневнике» Гордона так описан один из дней обучения в мае 1662 г.: «1662 г. после завтрака я поехал к полку в Кожевники и, велев бить сбор, прибыл на плац-парад. Но все солдаты так напились, что я не мог собрать их и за 3 или 4 часа, а когда произвел смотр, 60 или 80 из них не оказалось – они сбежали. Я велел разыскать по квартирам их оружие и снести в одно место…, дабы сдать оружие и брошенные вещи в приказ» [Там же]. По данным Гордона, «с сентября 1661 г. по май 1662 г., то есть за 9 месяцев, полк уменьшился на 420 человек, то есть более чем на треть» [Там же].
Требования со стороны европейских офицеров соблюдать дисциплину и овладевать военными навыками воспринимались неоднозначно. Гордоном описана ситуация января 1677 г., когда драгуны подали прошение против шотландца, по его мнению, за то, что он «поддерживал добрую дисциплину и не позволял им проказ и отлучек» [Там же]. Подобное настороженное отношение или полное блокирование советов и команд наблюдалось и во время самого боя. Гордон приводил примеры, когда ему в течение нескольких часов приходилось мотивировать московских полковников к активным инженерным работам и другим видам подготовки к бою из-за того, что «предложение занять и укрепить новую позицию исходит от меня» [Там же]. По его мнению, «из-за недостатка полномочий, медлительности и неповиновения иных старших офицеров дела ведутся не столь исправно, как надлежит», что сказывается отрицательно на боеспособности войск [Там же].
Подобная ситуация связана и с неприятием московитами земляных инженерных работ, что нашло отражение как в сочинении шотландского полковника, так и в документах Разрядного приказа. Одной из главных причин ее было столкновение представлений о содержании самой службы традиционной конной элиты, которые «пришли биться, а не работать» [Там же], и европейских «начальных» людей как носителей новых знаний.
В связи с отсутствием соответствующих знаний большое число обучавшихся московитов проигнорировали огромное количество европейских изданий по военному делу. Из всего тиража переведенного устава «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» за 10 лет было продано всего 134 экземпляра, после чего оставшиеся 1066 книг забрали в Приказ тайных дел [Учение и хитрость…, 1904].
Данная ситуация имела следствием исключение московитов из военного интеллектуального ареала и тактическую слабость и общую неготовность местного высшего командного состава к конкуренции с европейскими соседями.
В заключение следует отметить, что, несмотря на все трудности продвижения иноземных практик и технологий в московское военное дело, Московскому государству удалось создать корпус местных специалистов и заложить фундамент для последующих военных реформ в XVIII в. При этом процесс обучения был ориентирован на приобретение практических навыков в обход овладения военной теорией, изучением которой занимался царь и ограниченный круг начальников, руководивших ходом реформы войска. Европейские специалисты оказались незаменимым ресур- сом для московских властей в этом процессе. Благодаря их консультациям, участию в отборе специалистов, переводе специальной технической литературы, созданию первых военных документов по комплектованию, обучению, содержанию и функционированию полков в мирное и военное время, непосредственному участию в передаче навыков линейного строя Московскому государству удалось при тех скудных ресурсах, которыми оно обладало, дать свой ответ на вызов со стороны модернизированных европейских армий.
Список литературы Европеизация московского войска в XVII веке: трансфер образовательных практик голландской военной школы
- Акты Московского государства. СПб., 1899. 773 с. Т. 2.
- Гордон П. Дневник. 1659-1667. М, 2002. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon/frametext9.htm (дата обращения: 01.08.2010).
- Лаптева Т.А. Документы иноземного приказа как источник по истории России XVII в.//Архив рус. истории. 1994. Вып.5. С. 110-127.
- Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории. 1656-1671 гг. М., 2006. 264 с.
- Нефедов С.А. Первые шаги российской модернизации: реформы середины XVII в.//Вопр. истории. 2004. № 4. С. 33-52. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_Nefed_RussMod.php (дата обращения: 21.05.2012).
- Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России XVII в. (правовой статус и реальное положение). М., 2004. 535 с.
- Пенской В.В. Великая огнестрельная революция. М., 2010. URL: http://lib.rus.ec/b/307823/read (дата обращения: 17.10.2011).
- Учение и хитрость ратного строения пехотных людей/печ. под наблюдением д. чл. Рус. ист. о-ва А. З. Мышлаевского, и чл. С.-Петерб. археол. ин-та И. В. Парийского. СПб., 1904. URL: http://www.runivers.ru/bookreader/book53949/#page/9/mode/1up (дата обращения: 17.06. 2012).
- Чернов А.В. Вооруженные силы русского государства в XV-XVII вв. М., 1954. URL: http://militera.lib.ru/research/chernov_av/04.html (дата обращения: 23.08.2010).
- Шлейссингер Г.А. Полное описание России, находящейся ныне под властью двух царей -соправителей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича: Лаптева Л.П. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века//Вопр. истории. 1970. № 1. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Schleissinger/frametext1.htm (дата обращения: 22.08.2010).