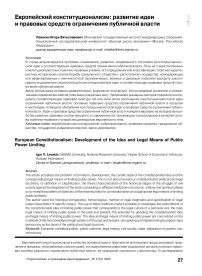Европейский конституционализм: развитие идеи и правовых средств ограничения публичной власти
Автор: Левакин И. B.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (16), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализируется проблема становления, развития, современного состояния конституционалистской идеи и соответствующих правовых средств ограничения публичной власти. Речь не о многочисленных конституционалистских политико-правовых учениях, его определении или классификации: тезисная характеристика исторических этапов борьбы гражданского общества с деспотизмом государства, конкурирующих или аффилированных с ним институтов (экономических, военных и духовных) позволяет раскрыть закономерности диалектики сущностной для конституционализма идеи и соответствующих правовых средств ограничения публичной власти.Автор использовал историко-сравнительный, формально-логический, метод правовой догматики и конкретизацию юридических кейсов (описание конкретных дел). Применение указанных методов позволило исследовать соответствующие правовой культуре той или иной эпохи воплощение конституционалистской идеи ограничения публичной власти; основные правовые средства ограничения публичной власти в прошлом и настоящем; потенциал обновления конституционалистской идеи и правовых средств ограничения публичной власти. Идея и правовые средства ограничения публичной власти конкретизированы на материалах наиболее развитых правовых систем прошлого и современности, признающих и реализующих в качестве основы политико-правового устройства демократию европейского типа.
Европейский конституционализм, публичная власть, правовые средства, гражданское общество, государство, разделение властей, закон, демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/14128052
IDR: 14128052
Текст научной статьи Европейский конституционализм: развитие идеи и правовых средств ограничения публичной власти
Европейский конституционализм в качестве основной идеи и практики ее воплощения предусматривает правление в пределах, установленных конституцией; это единственная известная социальной истории политико-правовая система реального ограничения публичной власти, ее природной склонности к деспотизму. В распоряжении
СТАТ Ь И
конституционализма есть не только идея, но и «техники ограничения власти, такие как разделение властей, система сдержек и противовесов, а также превентивные обязательства защищать основные права»1. Однако современность демонстрирует веские доказательства исчерпания потенциала классического, европейского конституционализма в ограничении стремления элит к дискреции — действиям по своей воле, прихоти. Кризис конституционализма, проявляющийся в отказе от приверженности идее ограничения публичной власти2, не в последнюю очередь вызван трансформацией общества где «количество и качество», то есть концентрация публичной власти (ее формы не сводятся к государственной, среди них основные — экономическая, военная и духовная) существенно изменилась3, а теория и практика правовых средств ее ограничения остались прежними4.
Историко-логический метод, метод правовой догматики и конкретизация юридических кейсов (описание конкретных дел) позволяют указать на соответствующие правовой культуре эпохи формулирование конституционалистской идеи ограничения публичной власти; основные конституционно-правовые средства ограничения публичной власти в прошлом и настоящем; выявить потенциал обновления конституционалистской идеи и правовых средств ограничения публичной власти.
Развитие сущностной для европейского конституционализма идеи и соответствующих правовых средств ограничения публичной власти прослеживается на условных этапах: античном; «средневековом»; Нового времени; послевоенном (Второй мировой войны); новейшем5. Охарактеризовав данные этапы возможно выявить закономерности трансформации конституционалистской идеи и правовых средств ограничения публичной власти6.
Зарождению идеи и правовых средств ограничения публичной власти в античности способствовало стремление свободных граждан к «общему благу»: имея всю полноту власти и контроля над людьми, ресурсами на своей территории, «античный гражданский коллектив выступал в качестве суверена»; закон понимался в качестве воплощения принципа всеобщей гармонии, отсюда каждый, кто использовал власть исключительно для частных целей, покушался на божественный порядок7.
Древняя Греция (города-государства на юге Балканского полуострова ориентировочно VIII–I вв. до н. э.) демонстрирует наличие достаточно развитых протоконституционных средств ограничения публичной власти. Уже в 621 г. до н. э. архонтом Драконтом была проведена реформа законодательства, и родоплеменные обычаи были заменены писаным правом (драконтовской конституцией), что должно было в некоторой степени ограничить произвол эвпа-тридов (родовой знати) и богатейших семей, фактически контролировавших органы власти8.
Греки принципиально различали «в общественных установлениях необходимое как выражение божественной правды и случайное как проявление человеческого произвола»9. Аристотель, давая обзор ранних греческих законодательств, особо выделял политическое (др.-греч. πολιτική «государственная деятельность»), к которому относил законы, имеющие характер всеобъемлющей конституционной реформы, то есть реализующие принцип разделения властей. Философ полагал, что «в каждом городе-государстве его полноправные сограждане участвуют или могут участвовать в выработке законов, в исполнении должностных забот и в осуществлении правосудия, то есть, говоря современным языком, имеют право участвовать в отправлении всех трех ветвей государственной власти», что и считается обычно конституцией, точнее — политической конституцией государства в ее античном истолковании10. Были разработаны правила периодических выборов, избрания по жребию, судебных процедур и т. п.11
Афиняне, указывает Телеклид, дали Периклу право брать дань с городов и присоединять города, одних лишать свободы, а других по произволу награждать, позволять возводить им каменные стены, чтобы потом их разрушать, право нарушать мирные договоры, увеличивать государственную казну и обогащать граждан12. В то же время граждане полисов, во время войн выступавшие в качестве ополчения, понимали опасность произвола военной власти: известен факт суда над военачальником, главой Фив и Беотийского союза Эпаминондом, которого чуть было не приговорили к смертной казни за то, что славный победитель Спарты удерживал начальство над армией на четыре месяца дольше, нежели чем позволял закон13.
СТАТ Ь И
Древний Рим около 450 г. до н. э. продемонстрировал попытку ограничения произвола патрициев в области судебной деятельности, защиты граждан от самоуправства должностных лиц, через составление и обнародование Законов XII таблиц (лат. Leges XII Tabularum). Это был важный опыт древнеримского (VIII в. до н. э. — V в. н. э.) этапа формирования идеи и правовых средств ограничения публичной власти, в дальнейшем ставший предметом рецепции для большинства европейских правовых систем14.
Законы и указы Рима провозглашались от имени SPQR (Senatus Populusque Romanus — сенат и народ Рима); Римское право подарило нам термины «право» (ius), «законность» (lex, iustitia), «конституция» (constitutio — «установление»), «основной закон» (lex fundamentales) и др. Римское законодательство сформулировало многие процедуры и формы ограничения публичной власти: разделение властей; систему сдержек и противовесов; порядок импичмента; регулярные выборы и т. д.; просматривалась система подчинения обычных (текущих) законов общим принципам, составляющим основы римской конституции (устройства). События, связанные с уходом плебеев из Рима в 287 г. до н. э., стали важной страницей в истории становления европейской культуры взаимодействия гражданского общества и публичной власти, а плебисциты (plebis scitum) — прообразом законодательных референдумов, проводимых в наши дни15.
Древнеримские политики и юристы оберегали res publica как что-то общее, удерживаемое многими людьми. Даже высшая политическая республиканская должность — консульство, введенная сразу же после отмены царской власти, была разделена между двумя лицами (imperium duplex) : этот принцип в целом соблюдался на протяжении всего республиканского периода. Иногда вместо двух консулов назначался диктатор16. Факт удачного покушения на пожизненного диктатора Юлия Цезаря мыслился многими современниками в качестве героического тираноубийства, необходимого для защиты идеалов свободы и Республики17.
Восточная Римская империя с IV в. наполняла законы христианскими мотивами (благодать не отрицает закона, а Царство Небесное — Римской империи), ограничивающими земную власть волей и властью единого бога, что оказало огромное влияние на формирование конституционализма: Миланский эдикт (Edictum Mediolanense) 313 г., Фессалоникийский эдикт (Cunctos populos) 380 г., Дигесты ( Digesta ) 530–533 гг. и др18 .
Римско-эллинистическая монархическая идея объединялась с идеологией христианства, а государство с церковью: возобладал римский взгляд на императора как неограниченного правителя (цезаропапизм), но не собственника империи. Христианство освящало не столько личность императора, сколько его власть. Конституция Византии была основана на убеждении, что на земле воспроизводится образ Царства Небесного: «Подобно тому, как Бог правит на небесах, император должен править на земле и выполнять его заповеди». Отсюда идея симфонии властей, когда высшие представители государства и церкви получали «двойную санкцию»: миропомазание византийских императоров, участие государей в поставлении патриархов; идея ограничения императорской власти властью духовной — необходимостью соблюдения небесного Закона (Святого Писания)19.
Земные ограничения верховной власти существовали де-факто: императора обожествляли как божьего избранника, но мятеж против него как личности, не достойной трона, не осуждался. За 1122 г. существования Империи в ней сменилось до 90 василевсов, и каждый правил в среднем не более 13 лет, почти половина императоров была свергнута и уничтожена физически20. Идея ответственности императора возводится к шестой новелле Юстиниана I от 535 г., в которой легитимность императорской власти обусловливалась соблюдением ею законов. Открыто сомнения в праве василевса на неограниченную власть над землей, казной, людьми, на возвышение или
СТАТ Ь И
унижение подданных по своему произволу стали высказываться феодальной аристократией с последней четверти XI столетия21.
Развитие идеи и правовых средств ограничения публичной власти в «Средние» века проявились в конкуренции варварских правд и римского права, существенным влиянием папских «конституций», а также развитием сословно-феодальных договорных начал, отсюда Средневековье в Европе — это не тотальный произвол силы, но отношения господства и подчинения в рамках нескольких центров власти, их сложный баланс.
Средневековые европейские (medium aevum) христианские страны (res publica populi Christiani) — ориентировочно V–XV вв. — конституировала духовная власть. Церковные правила, «поскольку в заповедях, которые легли в основу церковного права, в их толковании нет места личному произволу и домыслам», имели силу законов; священное право (jus sacrum) стало частью публичного, государственного права (jus publicum) 22.
Первосвященники Рима, папы, зачастую понимали свою власть как неограниченное «право распоряжаться в делах светских и временных» (dispositio in saecularibus et in temporalibus) . Папские буллы и бреве выступали в качестве актов верховного полновластного и абсолютного законодателя и правителя как в церковных, так и в светских делах. Только к ХIII в. отчетливо формулируются идеи, согласно которым власть первосвященников должна быть ограничена, «так как папа не повелитель (dominator) , а служитель (ministrator) . <…> Точно так же нет оснований считать суверенной и универсальной имперскую власть. Император — не пастырь, он предписывает законы народу. Его власть не имеет отношения к Богу, ее сакральность еще менее бесспорна, чем святость папской власти»23.
Противоборство церковной и светской властей («Каносское унижение Генриха IV», «Авеньонское пленение пап» и др.) привело к формулированию концепций их сдерживания и автономии ( doctrina de duo gladii — «учение о двух мечах»): власть папы не выше и не ниже императорской, но в принципе обладает иной природой24.
В Англии стремление прекратить политику административного и финансового произвола короля и его чиновников, затрагивающего все свободное население, рыцарей, горожан, представителей Церкви, а также держателей земли от монарха — баронов, реализовалось в Великой хартии 1215 г. (Magna Charta Libertatum)25.
Договор (хартия) — юридическая сделка между двумя самостоятельными и противостоящими друг другу сторонами — по своей природе противна произволу. В этом контексте особого внимания заслуживает ст. 39 Великой хартии 1215 г., поскольку она направлена против самовластия короля и его чиновников в центре и на местах, злоупотребления их правом объявления человека вне закона без достаточных оснований, незаконных арестов, наложения наказаний по административному распоряжению без судебного разбирательства, произвольного лишения прав владения имуществом, прежде всего землей, и других неправомерных действий. Конечно, изначально Великая хартия носила феодально-олигархический, узкосословный характер. Тем не менее ряд ее статей содержал правила, целью которых было ограничение произвола королевской власти путем введения в политическую систему страны особых государственных органов, обладавших полномочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав, в том числе в силу этого данные статьи получили название конституционных26.
Существенно, что борьба Иоанна, божьей милостью короля Англии, сеньора Ирландии, герцога Нормандии и Аквитании и графа Анжу, церкви и сильнейших феодалов за экономические и политические права привела к созданию уже в ХIII в. законодательных (представительных) органов власти: в 1265 г. в Вестминстере собрался первый английский Парламент — основа конституционного правления (constitutional government), развитые принципы которого действуют и поныне в Великобритании27.
Конституционалистская идея и соответствующие правовые средства ограничения публичной власти Нового времени сформулированы в доктрине «Общественного договора», послужившей концептуальной основой борьбы с абсолютизмом. «Договор» воплощает идею ограничения власти, так как отрицает подчинение человеку как таковому, как конкретному индивиду, отныне «власть человека над человеком осуществляется как власть самого права, то есть как власть объективной беспристрастной нормы»28.
Европейский конституционализм Нового времени (начало ХVI в.), ограничивал феодальное право на насилие, вотчинный произвол правовыми актами, среди которых октябрьские тезисы (Die 95 Thesen) 1517 г. Мартина Люте- ра (Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций) и Петиция о праве (на англ. Petition of Right) 1628 г., одобренная королем Англии Карлом I Стюартом.
СТАТ Ь И
Реформация (от лат. reformatio — «исправление, превращение») явилась мощным антиавторитарным движением: буржуазный протестантизм (от лат. protestans — публично заявляющий) нанес удар по властной (идеологической и политической) монополии римских первосвященников и создал новые возможности для демократизации управления церковью, разрешения вопросов традиционного католицизма, касающихся проблемы верховенства власти соборов и пап; защиты национальных епископатов и монастырей от произвола Папской курии и др.29 Теоретическая концепция конституционализма, сформулированная учением английской философии Нового времени, в качестве обычного или письменного оформления общественного договора по поводу пределов деятельности монарха или другого правителя, берет свое начало в Англии после Славной революции 1688 г., когда власть монарха ограничивается «Биллем о правах»30. Требования (Petition of Right) обеих палат английского парламента королю были направлены на «восстановление прав нации, нарушенных королевским произволом»: требования запрета содержать кого-либо в тюрьме за отказ платить незаконные налоги; отказ от практики наделения отдельных лиц полномочиями, противными законам и вольностям страны; отказ от произвольного установления чрезвычайных военных судов, произвольной смены судей, создания большого числа монополий, ущемляющих свободу торговли и т. д.
Как известно, нарушение королем права парламента устанавливать налоги и его религиозные притязания (желание утвердить свою власть над церковью с помощью англиканских епископов, в то время как растущее число англичан присоединяется к протестантству, отвергающему епископат) привели к тому, что в 1649 г. Карл I был обвинен в измене, тирании, нарушении законов и казнен31.
Французская революция (Révolution française) уничтожила старый режим (на фр. Ancien Régime) как основу сословно-помещичьего и бюрократического произвола; были приняты Декларация прав человека и гражданина 1789 г., Конституции Франции 1791 г. и 1793 г., другие определяющие судьбу европейского конституционализма правовые акты32.
Кризис абсолютистской власти разрешился крайним политико-правовым средством борьбы — восстанием (лат. jus resistendi ), затем были приняты демократические законы, от которых «как бы лучами расходились притягательные слова: свобода, равенство, братство», разбудившие «Весну народов», в том числе выразившуюся в конституционализации континентально-европейских правовых систем33. Согласно Декларации прав человека и гражданина — одному из первых документов демократического конституционализма — «старому режиму», основанному на сословных привилегиях, были противопоставлены неотчуждаемость естественных прав, народный суверенитет, формальное равенство и свобода как добровольное подчинение закону34. В то же время провозглашение прав и свобод не предотвратило диктатуры и террора, «не обозначало в устах деятелей Великой революции признания того, что государственная власть принципиально в чем-либо ограничена. Напротив, с практическим индивидуализмом у них соединялась мысль об абсолютном верховенстве народа, о неограниченности народной воли по отношению к индивиду»: все декларации прав были направлены против органов власти, но не против самой власти, не против власти народа; «все они имели своей целью гарантировать свободу политическую, а не свободу индивидуальную»35.
Революционная Республика сурово обошлась с последним представителем абсолютной монархии Франции: сначала власть Людовика XVI стала номинальной, в 1791 г. его заставили присягнуть конституции, а в результате восстания 1792 г. он оказался арестованным и в 1793 г. казненным по обвинению в заговоре «против общественной свободы и в покушении на безопасность нации»36.
На американском континенте борьба с произволом власти британской метрополии подготовила новую ступень развития идей европейского конституционализма37, выразившись в Декларации независимости США 1776 г.,
СТАТ Ь И
первой (или одной из первых) в мире Конституции США 1787 г. и первых десяти конституционных поправках («Билле о правах») 1791 г. и других правовых актах38.
Стремление американской нации к независимости также опиралось на идеи «общественного договора» (Social Contract ) , оправдывающего необходимость искоренения произвола со стороны государственной власти: «право и долг народа свергнуть такое правительство, которое обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму» 39. Уже к XIX в. публичную сферу, основанную на конституционализме, характеризовали: открытая дискуссия, критика власти, подотчетность, гласность и независимость действующих лиц от экономических интересов и контроля государства40. Американский конституционализм, остававшийся до мировых войн ХХ в. главным образцом для подражания во всем мире, в результате эволюции развил или выработал следующие, основанные на идее общественного договора классические средства ограничения публичной власти: верховенство права; правление в соответствии с конституцией; федерализм; разделение властей и систему «сдержек и противовесов»; систему выборов; суверенитет народа и демократическое правление; конституционный контроль; независимость правосудия; ограничение «Биллем о правах человека» субъектов властных полномочий; свободу слова и печати; гражданский контроль над полицией и военными; импичмент президента и др.
Отцы-основатели Конституции не считали переизбрание достаточным фактором ограничения президентской власти, поэтому «идея импичмента имеет абсолютно центральное значение для республиканской формы правления». В истории США процедуру импичмента президента инициировали неоднократно. Первая в истории США процедура импичмента была начата в 1868 г. против 17-го президента США Э. Джонсона; Д. Трамп вошел в историю, став первым президентом США, которому палата представителей конгресса США дважды объявляла импичмент: в 2019 и 2021 гг. в связи с «превышением полномочий», «воспрепятствованием конгрессу» и по обвинению в «подстрекательстве к волнениям»41.
Современный (после Второй мировой войны) этап развития идеи и правовых средств ограничения публичной власти главным образом выразился в развитии универсальных институтов, направленных на защиту предусмотренных доктриной «Общественного договора» прав и свобод человека, в том числе через ограничение власти на уровне транснационального конституционализма42.
Основой транснационального конституционализма стали общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в Уставе ООН 1945 г., Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международных пактах 1966 г. о гражданских и политических и об экономических, социальных и культурных правах и др.43 Устав ООН в п. 6 ст. 2 особо оговаривает, что ООН «обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее членами, действовали в соответствии с этими принципами, поскольку это может оказаться необходимым для поддержания международного мира и безопасности»44.
Европейский конституционализм развили Маастрихтский договор 1992 г., Лиссабонский договор 2007 г., другие нормы и процедуры Европейского союза, деятельность Европейского суда по правам человека. Конституционализм декларирован в качестве ядра правопорядка Европейского союза, а членство в Союзе предполагает наличие гарантий механизмов ограничения публичной власти на национальном уровне в виде «демократического и правового государственного устройства»45. Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г. утверждается необходимость охраны права человека «властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».
В исключительных случаях используется система принудительных средств транснационального конституционализма — решения международных судов и трибуналов (политические оценки международно-правовой ответствен- ности — отдельный вопрос): в 2001 г. бывший президент Югославии С. Милошевич был арестован в соответствии с югославским законодательством по обвинению в совершении уголовных преступлений (злоупотребление служебным положением и объединение в группы для совершения уголовных преступлений) и предан Гаагскому Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ), где обвинялся в преступлениях против человечности и др.46
СТАТ Ь И
Кризис идеи и правовых средств ограничения публичной власти в новейший период (конец ХХ — начало ХХI вв.) главным образом связан с разрушением взаимного согласия власти и населения по поводу прав на жизнь, собственность и свободу, необходимо выраженных в базовой конституционной доктрине «Общественного договора»47.
Эрозия доктрины «Общественного договора» , основанной на идее ограничения государства в интересах защиты гражданского общества, началась достаточно давно48, и сегодня Ю. Хабермас полагает, что общественный договор в его современном понимании — мифический документ49.
ХХI в. явил пример коррозии «Общественного договора» на фундаментальном уровне права на жизнь: во время пандемии COVID-19 2020–2021 гг. недостаток медицинского оборудования вынудил врачей отбирать наиболее перспективных для выживания пациентов, а война медицинских корпораций и правительств за рынок вакцин мешала людям получить жизненно необходимую помощь50.
Значительная часть населения номинально имеет право, но фактически лишена собственности на средства производства: выживание значительных народных масс ставится в зависимость от его социальных программ, по существу правительство определяет материальное положение людей или обеспечивает распределительную или «социальную» справедливость51.
Свобода человека ограничивается необходимостью борьбы с угрозами, прежде всего с терроризмом, заставляет правительства брать общество под тотальный цифровой контроль. Так, после терактов 11.09.2001 в США был принят Патриотический акт — специальный закон, существенно расширивший полномочия американских спецслужб. Для европейских стран серьезной проблемой оказывается возможность отступления — в рамках современной борьбы с терроризмом — от Европейской конвенции по правам человека на основании ст. 15 данной Конвенции52.
Современные крайне левые и солидаризующиеся с ними крайне правые интеллектуалы утверждают: симулирован общественный договор, европейский конституционализм фальсифицирован; права и свободы, политический конвенционализм и идея ограничения публичной власти посредством классических (национальных) и новейших (транснациональных, глобальных) институтов конституционализма декларируются лишь по инерции; центр политических решений переместился из публичных национальных органов народного представительства в теневые структуры deep state: бюрократические, финансовые, промышленные, силовые и пр., в том числе криминализованные группы; разрыв между идеей власти народа и конституционализмом привел к превращению конституционного правления в пережиток прошлого (конституционные институты превратились в способ внутреннего контроля власти над обществом, а не наоборот)53. Дело представлено так, что представители реальной власти в странах с историческими традициями процедурной демократии, в том числе потомственная аристократия, владельцы «старых денег», коррумпированные администраторы и другие научились пользоваться комплексом
СТАТ Ь И
инструментов конституционализма для манипуляции общественным мнением, а ротация фронтменов публичных органов создает лишь видимость перемен при фактическом сохранении статус-кво54.
И все же представляется, что современный конституционализм — еще не симулякр, фантом, поддерживаемый политтехнологами и методологами правящего класса55, а конституции — не набор прав, свобод, лозунгов и благих пожеланий, не обеспеченных политико-правовыми и социально-экономическими возможностями боль-шинства56. Европейские демократии продолжают демонстрировать потенциал борьбы с авторитаризмом: в 2012 г. Президент ФРГ К. Вульф подал в отставку из-за обвинений в коррупции; в 2021 г. суд признал виновным в превышении расходов на избирательную кампанию бывшего президента Французской республики Н. Саркози, добиваясь переизбрания; в том же году на фоне расследования по делу о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции произошла отставка канцлера Австрии С. Курца и т. д.57
Заключение
Анализ основных этапов развития европейской конституционалистской идеи и правовых средств ограничения публичной власти позволил выявить следующие закономерности.
-
1. Если «вся история человечества низводится к конфликту между стремлением господствующих элементов монополизировать политическую власть и передать ее по наследству и стремлением к смещению старых сил и мятежу новых сил»58, то история конституционализма есть борьба за воплощение идеи и правовых средств ограничения публичной власти, обеспечивающих правовой порядок осуществления и своевременный, мирный переход власти от «старых сил к новым».
-
2. Конституционалистская идея ограничения публичной власти возникает лишь в условиях сформированности достаточно устойчивых представлений об общем благе, божественной справедливости, «общественном договоре», то есть соответствует высокому уровню развития социума и исторически обусловливает доктринальный базис свободного развития гражданского общества.
-
3. Ограничение публичной власти реализуется с применением адекватных конституционалистской идее правовых средств: светских и религиозных, законодательных и правоприменительных, элементарных и комплексных, эволюционных и революционных, национальных, транснациональных и др.
-
4. Процессы нарастающего усложнения государственного механизма (от народного собрания до конституционного правительства), концентрации аффилированных с государственной властью экономических, военных и церковных институтов национального и транснационального уровней, как правило, опережают развитие идеи и правовых средств ограничения публичной власти.
-
5. Для модернизации идеи и правовых средств ограничения публичной власти необходима работа неангажиро-ванных обществоведов, сегодня справедливо указывающих на значительную деградацию основных принципов конституционализма (народный суверенитет, правление права, парламентаризм, разделение властей с системой «сдержек и противовесов», ответственное правительство, регулярность смены власти и др.).
-
6. Ускоряющееся научно-технологическое развитие, объективная зависимость значительных масс населения от социальных программ правительства, ядерная угроза и возрастающая мощь транснациональных корпораций предполагают раскрытие потенциала конституционалистской идеи и правовых ограничений публичной власти посредством адекватных процедур электронной демократии, в том числе доступного цифрового контроля граждан над правительством, церковью, военными и крупным бизнесом.
-
7. Задействовать конституционалистскую идею и правовые средства ограничения публичной власти способен лишь активный «источник власти», народ, объединенный в гражданское общество, ибо даже самые демократические формулировки правовых актов сами по себе не могут предотвратить деспотизм власти еще и потому, что конституционализм — это «не набор рецептов, он не способен наполнить конкретными предписаниями конституцию и складывающуюся вокруг нее государственную практику» 59.
Вывод: современность требует перманентной модернизации конституционалистской идеи и средств ограничения публичной власти для защиты «правления народа, народом и для народа».
Список литературы Европейский конституционализм: развитие идеи и правовых средств ограничения публичной власти
- Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта / В переводе и под редакцией С. А. Мальцевой. СПб.: Пневма, 2002. 880 с.
- БартошекМ. Римское право: понятия, термины, определения [пер. с чеш.] / пер. Ю. Пресняков. М.: Юридическая литература, 1989. 447 с.
- БаргМ. А. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв. М.: АН СССР, 1962. 382 с. ь-
- БаргМ. А. Кромвель и его время. М.: УЧПЕДГИЗ, 1960. 244 с. °
- Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / пер. с англ. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, ИНФРА- М, НОРМА, 1998. 624 с.
- ВаллерстайнИ. Анализмировыхсистем и ситуация в современном мире/пер. сангл. П.М. Кудюкина. СПб.:Университетская книга, 2001. 416 с.
- ВеберМ. Протестантская этика и дух капитализма. Избр. произв. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
- Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1988. 750 с.
- Гараджа В. И. Протестантизм. М.: Политиздат, 1971. 200 с.
- Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Правда, 1988. 512 с.
- Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2010. 816 с.
- Графский В. Г. Конституционализм как предмет изучения. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 3. С. 3-13.
- Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента (из истории английского общества и государства XIII в.). М.: Издательство Московского университета, 1960. 560 с.
- Диксон Р., Ландау Д. Транснациональный конституционализм и ограниченная доктрина неконституционного изменения конституции. Сравнительное конституционное обозрение, 2016. № 2 (111). С. 32-63.
- ЕллинекГ. Общее учение о государстве. М.: Юридический центр, 2004. 786 с.
- Жданов П. С. Понятие закона в контексте греческого мировоззрения VI-IV веков до н. э. Правоведение, 2014. № 3. С. 188-205.
- Книга Судей Израилевых / Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (канонические). М.: Российское библейское общество, 1992. С. 258-285.
- Кабышев В. Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1974. 149 с.
- КанфораЛ. Демократия: история одной идеологии. СПб.: Alexandria, 2012. 497 с.
- Каругати Ф., Хадфилд Д. К., ВайнгастБ. Р. Установление правопорядка в древних Афинах. Актуальные проблемы экономики и права, 2016. Т. 10. № 4. С. 176-199.
- Коптев А. В. Античное гражданское общество. Проблемы эволюции общественного строя и международных отношений в истории западноевропейской цивилизации. Сборник статей под ред. Ю. К. Некрасова. Вологда: Русь, 1997. С. 11-30.
- КозловаЕ. И., КутафинО. Е. Конституционное право России. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Проспект, 2007. 608 с.
- Конституция Европейского союза. Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием). М.: Инфра-М, 2005. 622 с.
- ЛитавринГ. Г. Как жили византийцы. СПб.: Алетейя, 1997. 256 с.
- Левко-Ринардато П. С. Византийская философия: генезис и особенности развития. Таганрог: Нюанс, 2012. 138 с.
- Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма / Полн. собр. соч. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1969. Т. 27. С. 299-426.
- Мартин Т. Древняя Греция. От доисторических времен до эпохи эллинизма. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. 472 с.
- МаннМ. Источники социальной власти: в 4 т. Т. 1. История власти от истоков до 1760 года н.э. / Майкл Манн; пер. с англ. и науч. ред. Д. Ю. Карасева. М.: Издательский дом «Дело», РАНХиГС, 2018.760 с.
- Медушевский А. Н. Глобальный конституционализм как правовая теория и идеология переустройства мирового порядка. Сравнительное конституционное обозрение, 2020. № 1. С. 15-42.
- Морозова Е. В. Людовик XVI. Непонятый король. М.: Молодая гвардия, 2018. 335 с.
- Моска Г. Правящий класс / пер. с англ. и примеч. Т. Н. Самсоновой. Социологические исследования, 1994. № 10. С. 187-198; № 12. С. 97-117.
- МункЯ., Фоа Р. С. Конец демократического века и глобальный подъем авторитаризма. Неприкосновенный запас, 2018. № 4. С. 130-139.
- Муромцев Г. И. Конституционализм: проблемы методологии. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 1. С. 20-42.
- Иоанн Мейендорф (протоиерей). Рим — Константинополь — Москва. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. 320 с.
- Исаев И. А. Симулякры: виртуальная реальность закона. Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 5. С. 30-40.
- Основы государственного права Англии. Перевод, дополненный по 6-му английскому изданию. Введение в изучение английской конституции. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1907. 707 с.
- ПашуканисЕ. Б. Избранные произведения. М.: Наука, 1980. 271 с.
- Пинкус С. Первая современная революция. М.: АСТ, 2017. 928 с.
- Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М.: Наука, 1994. 702 с.
- Покровский И. А. История римского права. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний сад», 1999. 533 с.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]. Изд. 3-е, стереотип. М.: Статут, 2001. URL: http://civil.consultant.ru/ellb/books/23/ (дата обращения: 10.05.2023).
- ПродиП. История справедливости: от плюрализма форумов к современному дуализму совести и права. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 512 с.
- Пройсс У. Модели конституционного развития и перемены в Восточной Европе. Полис, 1996. № 4. С. 133-136.
- РансименС. Восточная схизма: византийская теократия. РАН. Ин-т востоковедения. М.: Наука: Вост. лит., 1998. 238 с.
- СкуркоЕ. В. Борьба с терроризмом и права человека в Европе. Актуальные проблемы Европы, 2021. № 4. С. 283-301.
- Смит У. Словарь греческих и римских древностей [Электронный ресурс]. URL: http://anclentrome.ru/dlctlo/artlcle. htm?a=177266314 (дата обращения: 10.05.2023).
- Французская революция в документах, 1789-1794 / сост. Я. М. Захер. Ленинград: Прибой, 1926. 379 с.
- Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории буржуазного общества. М.: Весь мир, 2016. 344 с.
- ХабермасЮ. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука, 2001. 417 с.
- Хомски Н. Государство будущего. М.: Альпина нон-фикшн, 2012. 104 с.
- ЧеренковМ. Грядущая реформация как возвращение к Евангелию и соборности. Философско-религиозные тетради. Тетрадь № 6. Материалы третьей ежегодной конференции «Реформация vs Революция». М.: Местная религиозная организация Евангельских христиан-баптистов «На Руси», 2013. 96 с.
- ШарпД. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения / пер. с англ. Н. Козловской. М.: Новое издательство, 2005. 84 с.
- Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М.: Юристъ, 2001. 292 с.
- Шайо А., Уитц Р. Конституция свободы: введение в юридический конституционализм. М.: Ин-т права и публич. Политики, 2021. 580 с.
- ЭбзеевБ. С. Глобализация и становление транснационального конституционализма. Государство и право, 2017. № 1. С. 5-15.
- Bondar N. S. Modern Russian Constitutionalism. Philosophical Conseptualisation in Light of Constitutional Justice. Law. Journal of Higher School of Economics. Annual Review, 2012. P. 3-18.
- Kumm M. On the History and Theory of Global Constitutionalism [Electronic resource]. URL: https://www.researchgate.net/ publication/366359565_Global_Constitutionalism_History_Theory_and_Contemporary_Challenges (дата обращения: 10.05.2023).
- Mandel M. A Brief History of the New Constitutionalism, or "How We Changed Everything so That Everything Would Remain the Same Would Remain the Same" [Electronic resource] [Electronic resource]. URL: https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/ viewcontent.cgi?article=1901&context=scholarly_works&httpsredir=1&referer= (дата обращения: 10.05.2023).
- SajoA., UitzR. The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism. Oxford: Oxford University Press, 2017. 478 p.
- Huntington S. American Politics: The Promise of Disharmony. Harvard University Press, 1981. 368 p.
- HumboldtW. Limits of State Action. London: Cambridge University Press, 1969. 144 p.