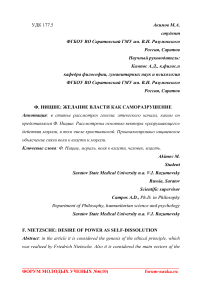Ф. Ницше: желание власти как саморазрушение
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен генезис этического начала, каким он представлялся Ф. Ницше. Рассмотрены основные векторы «разрушающего» действия морали, в том числе христианской. Проанализировано ницшевское объяснение связи воли к власти и морали.
Ф. ницше, мораль, воля к власти, человек, власть
Короткий адрес: https://sciup.org/140278923
IDR: 140278923
Текст научной статьи Ф. Ницше: желание власти как саморазрушение
Рассматривая происхождение моральных представлений и суждений, Ф. Ницше указывает их положительные и отрицательные характеристики. К числу условно положительных сторон морали относят ее успокаивающую, упрощающую, окрашивающую, осмысляющую функции. Однако эти позитивные сущности, дойдя и перейдя границы естественности, вырождаются в нечеловеческое, безвольное состояние. Покой, обретенный благодаря имеющимся правилам, превращается в безволие и малодушие; упрощение переживаемых ситуаций длится до полной примитивизации внешнего и внутреннего миров; окрашивание действительности вкладыванием посторонних ей целей и ценностей - до забвения неестественного происхождения этих аксиологических и телеологических «инвестиций»; а осмысление происходящего как прелюдии к потусторонней жизни ведет к ложному толкованию жизни как наказания и неподлинности.
Саморазрушение человека в этике «твари» происходило в два этапа: сначала программирование действовать в соответствии с полученными этическими предписаниями, а потом - вырождение нетворческого, слабого человека в агрессивного, жаждущего властвовать над тем, кто не подчинялся, в отличие от него, жестким правилам и императивам. По Ницше, ощущение собственной незначительности ранило человека, пригибало к земле, и поэтому, когда человек приобрел, пусть и извне, ценность, то он стал толковать себя через соответствие высшему идеалу. Естественно, после такого довольства собой рядовому человеку было неприятно осознать, что его высшая ценность - Бог - выдумка для манипулирования толпой.
Идеалом первого этапа было разжижение жизни (анемический идеал), идеалом второго – неприятие жизни (противоестественный). Из обычного мирного существа, благодарного за предоставленные жизненные ориентиры, «средний» человек превратился в агрессивного моралиста, навязывающего свою стадную мораль выдающимся, исключительным: основная тенденция слабых и посредственных всех времен – сделать сильных слабее, низвести их к своему уровню. Толпа хочет равных прав, игнорируя естественную разницу в талантах и жизненной силе: «Мы видим, к чему сводится жизнь в обществе – каждый отдельный индивид приносится в жертву»1 общему идеалу. Выхолащивание индивидуальности с целью всеобщего приближения к усредненному идеалу не учитывало, что целью жизни (если она у нее есть) может быть только становящаяся индивидуальность, но никак не постоянный, фиксированный идеал.
Слабому человеку нужны перила, ему нужен «категорический император», и «нужно простить человеческой гордости, что она искала этот авторитет как можно выше, чтобы чувствовать себя возможно менее приниженной под его властью. Итак – говорит Бог»2. Желание увеличивает то, чем хотят обладать; величайшие идеи – это те, которые создало наиболее бурное и наиболее продолжительное желание. Мы приписываем вещам тем больше ценности, чем больше растет наше стремление к ним: если «моральные ценности» стали высшими ценностями, то это показывает, что моральный идеал был наименее выполнимым (поскольку он представлялся миром, лежащим по ту сторону всяких страданий). «Человечество обнимало со все возрастающим жаром одни облака; в конце концов оно своему отчаянию, своему бессилию дало имя “Бога”»3 …
То есть на этапе послушания и беспрекословного подчинения «средний человек» во всем повиновался Богу, доверительно относясь к другим людям. Но по мере принятия к сведению тех фактов, что не все утруждают себя покорностью строгим нормативам христианской этики, обыкновенные люди, объединившись на почве своей обиды, решили численностью превзойти тех немногих, кто пользовался привилегиями: «Вопрос: почему всюду терпело поражение физиологическое превосходство? Почему не существовало философии “да”, религии “да”?.. Мы поняли то, что определяло до сих пор высшую ценность и почему оно взяло верх над противоположной оценкой – оно было численно сильнее»4. Такому стаду, поверившему в свои силы, даже Бог был более не нужен: стадный инстинкт сменил голос бога5. Они перелицевали свои страсти (волю к власти) в добродетели. Они не призывали истреблять «пленных», но обещали приобщить их к миру добродетели и благодати: «во времена христианства было затрачено много труда на то, чтобы свести человека к такой односторонней деятельности, к “доброму”»6.
Чем объясняется такая мутация? – почему терпение и послушание обернулось агрессией и бунтом? – мы не верим, пишет Ницше, что человек может стать иным, если в нем нет зачатков нескольких личностей. Ненависть средних к исключениям, стада – к независимым объясняется страхом за свою жизнь: при всем уповании на загробное воздаяние толпа жаждет земных благ. Страсть к самосохранению представляют как желание воспитать и вернуть на путь истинный погрязших в гордыне грешников: «общеобязательная мораль устанавливается силой, ибо с помощью ее достигается известная выгода; а для того, чтобы обеспечить ей победу, объявляется война безнравственности и пускается в ход насилие – по какому праву? Без всякого права, а просто под давлением инстинкта самосохранения»7.
Воинствующая толпа деспотствует над теми, кто не стремится к ее идеалу. Личная позиция Ницше не так проста, как ее обычно представляют: он не выступает против добродетели, он ее защищает. Но не единую для всех. Массовой добродетель не может быть по определению: «Нужно защищать добродетель против проповедников добродетели – это ее злейшие враги. Ибо они проповедуют добродетель как идеал для всех; они отнимают у добродетели прелесть чего-то редкого, неподражаемого, исключительного, незаурядного – ее аристократическое обаяние»8. Немецкий философ оберегает мораль и потому, что она весьма облегчает жизнь «высших»: мораль – как самоуправление. Пока толпа повинуется Богу и его заповедям, элита может не думать о средствах усмирения масс.
Но инстинкт самосохранения срабатывает не только у чутких к опасностям, боязливых слабаков: их неожиданная агрессия заставляет «высших» задуматься о своей безопасности. Появление морали в стаде Ницше объясняет недоверием друг другу в среде безликих: источником правдивости, добродетели он определяет осторожность.
Почему же толпа так ревностно защищает свои идеалы равенства и хорошего самочувствия, чем объясняется ее желание сохранить существующий порядок вещей? С одной стороны, «наше хорошее самочувствие и есть то, что мы проецируем из себя наружу и засчитываем
хорошему человеку как его свойство, как его ценность»
С другой стороны, по Ницше, это желание покоя и безопасности есть нежелание принять ответственность за свои поступки, решения на себя. То есть, в любом случае речь идет о выгоде и удобстве. Ведь гораздо проще переложить ее на другого: отделить свое действие от самого себя. По Ницше, христианский грешник предпочитает считать себя согрешившим, чем просто чувствовать себя плохим. Полноценная личность не может характеризоваться только исходя из ее добродетели: глубочайший инстинкт выдающихся людей – инстинкт отпущенной им меры власти – не нашел бы себе в таком случае достаточного выражения. Нравственный человек получает свою ценность благодаря тому, что он отвечает известной схеме человека, которая выработана раз навсегда.
Критику идеалов Ницше начинает с утверждения: «Человек, как он должен быть, – это звучит для нас столь же нелепо, как “дерево, как оно должно быть”»10. Требовать, чтобы что-то было иным, значит требовать, чтоб все было иначе. Но человек не властен родиться одареннее или мощнее. Принять мир, себя таким как есть – сложнее, чем требовать долженствования, соответствия идеалу. С другой стороны, если б не стремились к должному, не обратили б внимание на то, что есть. Таким образом, каждый «действительный» человек более ценен, чем любой «желательный». Тому подтверждение – платоновско-христианский идеал, унижающий и губящий человеческую природу: «“Невинность” – так называют они идеальное состояние поглупения; “блаженство” – идеальное состояние лени; “любовь” – идеальное состояние стадного животного, которое не желает больше иметь врагов»11. Он навязывает человеку цель, внешнюю его естеству: поступательное развитие и приближения к идеалу. Такие люди «хороши» не по природе, а от бессилия быть «плохими». Воля к власти есть и в них, но им недостает мощи, чтоб ее реализовать. «Добрый» – идеальный раб. Он не может мыслить себя как «цель», он – верующий, а вера есть отречение от себя. Его цель – приближение к внешнему идеалу, а не познание своих способностей. «Дело идет не о том, чтобы идти впереди… а о возможности идти самому по себе, о возможности быть иным»12. Итак, Ницше понимает человека как цель, и потому протестует против принуждения человека стремиться к готовому эталону. «Устами Ницше говорит гуманизм иного рода, основанный не на уважении ко всякому человеку, а к тому, что смело признает свою инаковость, свою силу и ответственность»13.
Цель Ницше – освободить человеческую природу от так называемого моралина: от распространившейся христианской этики. Логично, что стадо, начавшее утверждаться за счет своей нравственности, осудит решение сильных стать мощнее. В афоризме 378 немецкий мыслитель утверждает истинность высказывания: «Могучий лжет всегда», полагая, что только среди равных и стоит быть честным. Величие же, по Ницше, характеризуется решительностью, скептицизмом, «безнравственностью».
Ницше полагает, что настало время разъединить представления о дурной совести и естественных склонностях, положить конец двухтысячелетней истории вивисекций совести и самораспятия. Ценность человека не в приближении к идеалу, а физиологии: слабые стали называться добрыми, чтобы скрыть чувство бессилия, отсутствие великих утверждающих чувств власти. Подменили естественные, физиологические ценности мнимыми, искусственными: этическими. И если говорят, что болезнь делает человека лучше, значит, современная европейская утонченная моральность – выражение физиологического регресса. Поэтому выздоровление западного мира Ницше связывает с отказом от апатичного отношения к жизни.
Итак, в истории морали, по Ницше, находит выражение воля к власти, при посредстве которой рабы и угнетенные или же неудачники и недовольные собой или же посредственности пытаются укрепить наиболее благоприятные для них суждения о ценности. В принципе Ницше высказывает глубочайшую благодарность морали за то, что она делала до сих пор. Но теперь ее бремя может сделаться роковым. Она сама, предписывая правдивость, принуждает человека к отвержению морали. Даже гибель лучше, чем перспектива стать половинчатыми: «сама наша сила вынуждает нас выйти в море, туда, где до сих пор заходили все солнца; мы знаем, что есть новый мир»14. Следовательно, «воля разума к власти действует в субъектах, носителях рабской морали, так, что те, кому бы жизнью и жизнью и физиологией предназначено подчиняться, добиваются-таки власти»15.
Когда в платоновско-христианском мифе даже полезные проявления морали мутировали в крайность, гарантировав постепенное обесчеловечивание, когда неаристократическое, противоестественное и среднее утвердилось как высшее, тогда стало ясно, что и мораль, и познание – суть средства реализации воли к власти: в стремлении познавать, как и в подчинении нравственным установкам, сказывается стяжательство и инстинкт завоевания.
Список литературы Ф. Ницше: желание власти как саморазрушение
- Кампос А.Д. Критика рационального гуманизма в философии Фридриха Ницше. - Саратов: Изд-во Сарат.гос.мед.ун-та, 2016. - 146 с.
- К онтологии господства: коллективная монография. - М.: Издательский дом «Юность», 2017. - 151 с.
- Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. - М.: Культурная Революция, 2005. - 880 с.