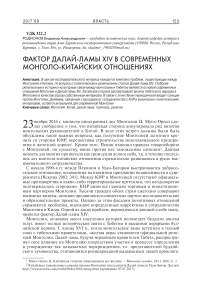Фактор Далай-ламы XIV в современных монголо-китайских отношениях
Автор: Родионов Владимир Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Геополитика
Статья в выпуске: 9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В центре исследовательского интереса находится комплекс проблем, существующих между Монголией и Китаем, по вопросу о политическом и религиозном статусе Далай-ламы XIV. Глубокие религиозные и историко-культурные связи между монголами и Тибетом являются основой современных отношений Монголии и Далай-ламы XIV. Китайская сторона рассматривает визиты тибетского иерарха в Монголию в качестве угрозы собственным интересам. В связи с этим Пекин периодически вводит санкции против Монголии. Дилемма, связанная с выгодами от сотрудничества с КНР и религиозно-политическими интересами, остается актуальной для современной Монголии
Монголия, китай, далай-лама, политика, религия
Короткий адрес: https://sciup.org/170168908
IDR: 170168908 | УДК: 322.2
Текст научной статьи Фактор Далай-ламы XIV в современных монголо-китайских отношениях
С начала 1990-х гг. между Пекином и Улан-Батором выстраиваются добрососедские отношения, основанные на взаимном признании независимости и суверенитета [Яскина 2002: 341]. Между КНР и Монголией отсутствуют официальные противоречия и какие-либо территориальные претензии, что неоднократно подтверждалось сторонами. КНР является главным торговым и инвестиционным партнером Монголии. Тысячи граждан обеих стран ежегодно совершают взаимные визиты, активно продвигаются совместные научно-исследовательские и образовательные проекты. Однако за этим фасадом позитивных отношений скрываются проблемы, вносящие определенные коррективы в сотрудничество Монголии и Китая. Одной из таких проблем, периодически дающей о себе знать, является фактор Далай-ламы XIV.
Монголия, основная масса населения которой исповедует буддизм школы гелуг, имеет тесные исторические связи с Тибетом и высшими иерархами буддийской церкви. С конца XVI в., когда монгольские ханы вступили в тесный союз с тибетскими правителями, «желтая вера» становится официальной религией Монголии. Далай-лама, будучи верховным правителем Тибета, распространял свое влияние на Монголию посредством участия в процессе определения и утверждения так называемых перерожденцев, т.е. представителей буддийского духовенства, считающихся реинкарнацией выдающихся людей прошлого.
Самыми влиятельными и почитаемыми среди монгольских перерожденцев на протяжении нескольких веков были люди по линии Джебцзун-Дамба-хутутхты, носившие монгольский титул богдо-гэгэна. Кроме того, влияние далай-ламы в Монголии осуществлялось через систему религиозного образования, которое получали в тибетских монастырях многие монголы.
Даже в социалистический период истории Монголии, когда государство проводило политику официального атеизма, а в 1930-х гг. по буддийской церкви был нанесен сильнейший удар, буддийский фактор активно использовался в международной политике Улан-Батора. Под патронажем монгольского руководства на территории МНР неоднократно проходили заседания международной организации «Азиатская буддийская конференция за мир», штаб-квартира которой расположена в Улан-Баторе в монастыре Гандантекчинлинг. Участником этих мероприятий являлся и Далай-лама XIV. В условиях конфронтационных отношений с КНР для МНР, равно как и для Советского Союза, фигура мятежного по отношению к Пекину первосвященника рассматривалась в качестве средства давления на проблемного южного соседа.
С началом демократических реформ в Монголии в 1990-х гг. фактор буддийской религии значительно увеличил свое значение, а визиты далай-ламы получили регулярный характер. Всего за период с 1979 по 2016 гг. Далай-лама XIV 9 раз посетил Монголию, из которых 7 визитов пришлись на постсоциалистический период.
Визиты Далай-ламы XIV в Монголию, как и в другие страны, многими рассматриваются в качестве так называемого теста на приверженность демократическим ценностям [Островская 2009: 68]. Монгольская политическая элита видит в демократическом имидже страны важный ресурс экономического и политического развития Монголии [Родионов 2013]. В свою очередь, представители западного экспертного сообщества склонны рассматривать выдачу монгольскими властями въездной визы далай-ламе как яркое проявление демократичности и независимости Монголии, ее приверженности ценностям прав человека, систематически нарушаемым в Китае1. В результате формально неполитическое мероприятие на практике становится акцией мягкого протеста против политики КНР в отношении Далай-ламы XIV и его сторонников. В этом смысле традиция использования фигуры далай-ламы в качестве средства давления на КНР, начатая еще в социалистический период истории Монголии, продолжается. Сменились лишь организационная форма и риторика.
Однако было бы неправильным считать, что только международно-политическая составляющая присутствует в вопросе о приездах в Монголию его святейшества. Для монгольских политиков отношения (пусть и неофициальные) с Далай-ламой XIV выступают также и средством внутриполитической стратегии, возможностью сыграть на настроениях и чувствах потенциальных избирателей. Согласно данным национальной переписи 2010 г., 53% населения Монголии называют себя буддистами2. В этой ситуации открыто негативная позиция по вопросу о визитах буддийского иерарха в Монголию чревата для того или иного монгольского политика потерей электоральной поддержки и иными репутационными издержками.
Со своей стороны, КНР не может не обращать внимания на связи Далай-ламы XIV с Монголией как минимум по двум основным причинам. Во-первых, международные визиты далай-ламы «есть элемент весьма рискованной игры, которую ведут на глобальном поле заинтересованные игроки» [Островская 2009: 68]. Соответственно, любое посещение тибетским иерархом какой-либо страны, с которой у Пекина есть официальные отношения, воспринимается китайским руководством как недружественный акт. В первую очередь на повестку дня помещается проблема территориальной целостности Китая. Официальная позиция Улан-Батора по вопросу о правовом статусе Тибета остается неизменной: Тибетский автономный район является составной и неотъемлемой частью КНР. В то же время различные буддийские общины и организации, имеющие определенное влияние в Монголии, активно выступают за политическое самоопределение Тибета и тем самым формируют соответствующее общественное мнение в монгольском обществе1. В этом свете визиты Далай-ламы XIV в Монголию придают дополнительный импульс подобным идеям.
Во-вторых, для Китая важно иметь контроль над буддийскими институтами, обладающими духовным авторитетом как среди жителей Тибета, так и в соседних странах. В частности, на данный момент китайские власти полностью контролируют институт панчен-ламы. Согласно правительственному постановлению 2007 г., любое признание перерожденцем должно быть подтверждено властями КНР [Сабиров 2012: 478]. В случае с Монголией речь идет прежде всего об институте богдо-гэгэнов. Согласно устоявшейся традиции, богдо-гэгэны были третьими по значимости иерархами школы гелуг после далай-лам и панчен-лам. Богдо-гэгэн IX, обладавший большим влиянием в религиозных кругах Монголии и в 2010 г. официально возглавивший Ассоциацию буддистов Монголии, был тесно связан с Далай-ламой XIV и представителями тибетского правительства в изгнании. Соответственно, в 2012 г. после смерти Богдо-гэгэна IX встал вопрос о поиске нового главы буддийской сангхи Монголии. Накануне своего визита в Монголию в ноябре 2016 г. далай-лама объявил о состоявшемся перерождении Богдо-гэгэна X в Монголии2, а не в Тибете, как это происходило почти со всеми его предшественниками. В результате китайская сторона не смогла получить важный инструмент духовно-религиозного влияния на Монголию.
В силу описанных выше причин все визиты далай-ламы в Монголию вызывают протесты со стороны китайских властей. Китайское правительство предпринимает усилия для воспрепятствования визитам далай-ламы в Монголию, оказывая дипломатическое давление как на Улан-Батор, так и на страны, через воздушные пространства которых он может добираться до этой страны. Например, в 2002 г. визит далай-ламы в Монголию был отменен из-за того, что власти России и Южной Кореи под давлением КНР лишили его возможности следовать через свою территорию транзитом. Также во время визита верховного буддийского иерарха в Монголию в 2002 г. китайская сторона на несколько дней перекрыла железнодорожное сообщение с Монголией, стремясь тем самым создать монгольской стороне значительные экономические трудности3.
До последнего времени ответной реакцией монгольской стороны на критику Пекина было указание на отсутствие каких-либо политических составляющих в визитах его святейшества1. Ни один из высокопоставленных политиков и представителей правящих кругов Монголии не пытался уверить китайскую сторону в недопустимости подобного впредь. Однако события, последовавшие за последним визитом далай-ламы в Монголию в ноябре 2016 г., заставили по-иному осмыслить данную проблему в монголо-китайских отношениях. 21 декабря 2016 г. китайская ежедневная газета Global Times со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа» сообщила о заявлении министра иностранных дел Монголии Ц. Мунх-Оргила, в котором говорилось, что «Монголия в дальнейшем не допустит и не разрешит осуществление визита далай-ламы в свою страну, даже если он будет носить исключительно религиозный характер»2. Эти слова, безусловно, стали свидетельством наметившихся изменений в монголо-китайских отношениях по вопросу о далай-ламе.
Вряд ли какую-либо роль сыграл тот факт, что у власти на момент последнего визита далай-ламы находились представители Монгольской народной партии, имеющие более близкие, чем иные партии Монголии, связи с КПК. Опыт предыдущих лет показывает, что подход к визитам тибетского иерарха со стороны монгольских властей не имеет зависимости от их партийной принадлежности. Также маловероятно, что на позицию монгольских властей повлияла критика визита, озвученная некоторыми монгольскими политическими3 и религиоз-ными4 деятелями.
Более реальным и все возрастающим фактором следует признать экономическое влияние Китая, которое не может не приниматься во внимание монгольской стороной. На протяжении последних лет товарооборот между двумя странами имеет тенденцию к возрастанию, а доля КНР во внешней торговле Монголии в 2015 г. составила 62,6%. Более того, китайская доля в общем экспорте Монголии в том же году была равна 83,7%5. В условиях тяжелой экономической ситуации в Монголии последних лет финансовая помощь со стороны южного соседа рассматривается в качестве важного условия решения проблем6. Наконец, именно с КНР связан амбициозный монгольский проект «Степной путь», в рамках которого территория Монголии должна стать транзитным пространством между Россией и Китаем7. В силу указанных обстоятельств беспрецедентно жесткая реакция китайской стороны, выразившаяся в экономических санкциях, заставила монгольское руководство прибегнуть к ранее не используемой риторике. В то же время на данный момент рано делать окончательные выводы о реальном повороте в стратегии Улан-Батора в отношении визитов Далай-ламы XIV в Монголию.
Дилемма, связанная с выгодами от сотрудничества с КНР, с одной стороны, и с религиозно-политическими интересами – с другой, остается актуальной для современной Монголии. Более того, несмотря на возросшее экономическое влияние КНР, фактор Далай-ламы XIV в ближайшие годы скорее всего не исчезнет с политической повестки и продолжит свое присутствие в монголо-китайских отношениях.
Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского гранта РФФИ, проект № 17-01-00117 «Буддизм и национализм во Внутренней Азии».
Список литературы Фактор Далай-ламы XIV в современных монголо-китайских отношениях
- Островская Е. 2009. Состоится ли российский бенефис Далай-ламы XIV? -Вестник аналитики. № 3. С. 67-74
- Родионов В.А. 2013. Демократия как внешнеполитический ресурс: случай Монголии. -Вестник Бурятского государственного университета. Вып. 8. Востоковедение. С. 96-100
- Сабиров Р.Т. 2012. Где «центр» тибетского буддизма в современном мире? -Тибетская цивилизация и кочевые народы Евразии: кросскультурные контакты: Цырендорджиевские чтения-2012(V). Киев: Полиграфист. С. 470-486
- Яскина Г.С. 2002. Монголия и внешний мир. -М.: ИВ РАН. 370 с