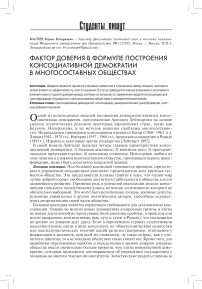Фактор доверия в формуле построения консоциативной демократии в многосоставных обществах
Автор: Малеев Вадим Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Студенты пишут
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
Доверие является одним из ключевых элементов в отношениях между людьми, элитами и прямо влияет на эффективность этих отношений. В статье приводится анализ возможного негативного влияния низкого уровня доверия между элитами на успешность применения модели консоциации для трансформации государства с многосоставным обществом в демократический режим.
Консоциативная демократия, консоциация, демократическая трансформация, элитные взаимоотношения
Короткий адрес: https://sciup.org/170177319
IDR: 170177319 | DOI: 10.31171/vlast.v29i3.8203
Текст научной статьи Фактор доверия в формуле построения консоциативной демократии в многосоставных обществах
О дной из используемых моделей построения демократии является консо-циативная демократия, предложенная Арендом Лейпхартом на основе анализа политических режимов некоторых европейских стран, таких как Бельгия, Нидерланды, и их методов решения проблемы многосоставно-сти. Незападными примерами консоциации являются Кипр (1960–1963 гг.), Ливан (1943–1975 гг.), Нигерия (1957–1966 гг.), Арушское соглашение в Руанде (1993 г.), Израиль и некоторые другие государства [Лейпхарт 1997].
В своей модели Лейпхарт выделил четыре главных характеристики консо-циативной демократии: 1) большая коалиция; 2) взаимное вето; 3) пропорциональное представительство; 4) автономия сегментов. Исполнение любого из этих пунктов в сложном многосоставном обществе, проходящем период трансформации, может быть достаточно непростой задачей.
Большая коалиция. Под большой коалицией понимается принцип, при котором в управлении государством участвуют представители всех крупных сегментов общества. Эти представители должны прийти к идее, что «худой мир лучше доброй ссоры»: необходимо достигнуть стабильности в обществе для его дальнейшего развития. Огромная роль в успешной реализации модели консоциации отводится политическому классу, источник легитимности которого не обязательно выборный. Это могут быть религиозные лидеры, военные деятели, успешные управленцы и другие политические акторы, способные осуществлять репрезентацию своей части общества.
Большая коалиция является первичным требованием для установления консоциации. Однако во многих новых демократиях социальные группы и элиты не имеют достаточной истории совместного решения проблем, в прошлом они могли враждовать десятилетиями (как хуту и тутси в Руанде), что сказывается на уровне их доверия друг другу. Если в европейских странах существовали надсегментарные связи в виде консенсуса по общечеловеческим ценностям или неантагонистических течений одной религии (например, отношения у фламандцев и валлонов, при всей их сложности, не такие острые, как у суннитов и шиитов), то в незападных обществах таких связей нет. Кроме того, для выработки переговорных практик и определенного уровня доверия западные общества имели значительно больше времени, чем элиты новоявленной демократии, которым приходится договариваться об управлении государством с помощью во многом чуждых им институтов. Зачастую даже усадить стороны за стол переговоров для дальнейшего урегулирования представляется затруднительным. Опыт Кипра 1960–1963 гг. показал, что насильственное утверждение такой модели может привести к эскалации конфликта.
Взаимное вето. Вторым элементом является взаимное вето – институциональная возможность каждого из сегментов заблокировать решения государственного уровня, которые так или иначе не удовлетворяют их интересам. Смысл такого инструмента заключается не только в возможности не допустить решений, притесняющих любую из социальных групп, но и в построении доверия между сторонами. Чтобы политический процесс не останавливался из-за права вето, сегменты должны будут достигать консенсуса по важным вопросам.
Однако очень легко можно представить ситуацию, когда группа будет злоупотреблять вето. Здесь могли бы помочь «пакетные» сделки со взаимными уступками, однако элиты могут отказаться на них идти. Такое же в и дение может быть и у противоположной стороны. Политический процесс попросту остановится, если вето не будет способствовать установлению доверия, а станет способом давления на оппонента. В 1963 г. политический процесс на Кипре был практически остановлен из-за попыток греков и турок-киприотов повлиять друг на друга с помощью права вето и выбить нужные уступки. Результатом стала кровопролитная гражданская война.
Пропорциональное представительство. Реализация принципа пропорционального представительства сегментов также может быть проблематичной. К примеру, сегмент составляет 30% населения, ему нужно выделить такое же число мест в ключевом органе, принимающем политические решения, – будь то парламент, кабинет министров или другой коллегиальный орган. Кроме того, предусматривается возможность позитивной дискриминации меньшинств при предоставлении такой группе излишней репрезентации.
Неудачный опыт Ливана показал необходимость динамичного изменения пропорций. Доля мусульман в общем населении за период 1943–1975 гг. значительно увеличилась, но политическая система сохраняла преимущество христианского населения, создавая при этом политическую напряженность. В то же время изменения могут создать психологическое ощущение дискриминации уже у других групп. Таким образом, этот принцип хорошо реализуем только в государствах с относительно статичным соотношением сегментов, в остальных случаях вызывает напряженность в отношениях и, как следствие, снижение доверия.
Также возникают вопросы, насколько условные 30% мест в органе власти позволят сегменту действительно влиять на принятие решений и насколько стороны будут слушать друг друга и искать совместные пути решения проблем. Практики коллегиального управления вырабатываются не сразу, и фактор доверия играет в этом не последнюю роль.
Автономия сегментов. Под автономией сегментов понимается делегирование значительных полномочий, в особенности в культурной сфере, в компетенцию органов власти и элит самого сегмента. При этом автономия может быть и не территориальной, если социальные группы проживают совместно на одной территории. Практики сегментарной автономии широко распространены в федеративных государствах, в т.ч. в РФ.
В данном контексте важно понимать, в чем заключается конечный смысл консоциации: разделить группы в наиболее острых для них вопросах, но при этом сохранить единое государство. Насколько такой подход действительно эффективен, и не способствует ли он еще большему разобщению сегментов? С одной стороны, консоциация действительно может дать время на построение более доброжелательных отношений, переговорных практик и привести к определенной политической стабильности. С другой стороны, во многих незападных обществах сегменты культурно далеки друг от друга, уровень доверия элит достаточно низкий, и подобная система может рассматриваться ими как перемирие, чтобы консолидировать силы для продолжения борьбы за перераспределение властных ресурсов. Этому способствует и элитный характер консоциации. Харизматичные лидеры сегментов могут занимать достаточно жесткие позиции, уступки в переговорах могут подрывать их элитное положение.
Консоционализм в Российской Федерации. Исследователи считают вопрос о консоциативной модели в России, ее состоянии и перспективах на уровне всего государства или отдельных регионов дискуссионным. Очевидно, что на федеративные отношения в РФ распространить такую систему вряд ли возможно – слишком уж сложна и неравномерна наша страна по сравнению с успешными европейскими кейсами консоциации, состоящими из 3–4 общественных сегментов и крайне компактными территориально. Другим препятствием является выстроенная система вертикали власти в отношениях с субъектами, которые эффективнее рассматривать в рамках теории обмена.
На региональном уровне консоциация более вероятна, учитывая большую гомогенность региона по сравнению со всей страной, меньшую территорию и число сегментов. Однако ощущается нехватка эмпирического материала, чтобы оценить возможность и эффективность модели на уровне субъектов.
Таким образом, для консоциации на уровне федерации или на уровне субъектов должна полностью измениться структура федеративных отношений, что маловероятно. Потенциал на региональном уровне выше, чем на общегосударственном. Однако будет ли он эффективным и действительно способствовать повышению стабильности и качества управления в многосоставных республиках, это вопрос, на который пока сложно дать ответ.
Выводы. Таким образом, консоциация не является универсальным методом построения новых демократических режимов в многосоставных обществах. Ключевым в данном контексте является уровень доверия между элитами, готовность к кооперации. Прежде чем пытаться конституционно установить такой режим, нужно оценить степень напряженности отношений между сегментами общества, устоявшиеся политические практики, принятые методы разрешения конфликтов между элитами.
Если отношения находятся в остром состоянии, а проблемы решаются в основном насильственным путем, то консоциация может лишь усугубить ситуацию. В таком случае предпочтительными могут быть интегративные методы, направленные на длительную работу по сближению сторон, либо принудительно-переговорные с участием третьих сторон, способных силой предотвратить конфликт.
Список литературы Фактор доверия в формуле построения консоциативной демократии в многосоставных обществах
- Лейпхарт А. 1997. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование (пер. с англ. Б.И. Макаренко, науч. ред. А.М. Салмин, Г.В. Каменская). М.: Аспект Пресс. 287 с