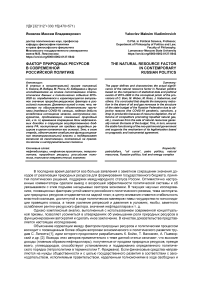Фактор природных ресурсов в современной российской политике
Автор: Яковлев М.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
К. Бойкса, М. Вебера, М. Росса, Ю. Хабермаса и других исследователей на основе сопоставления статистических данных и политических событий 20152020 гг. определяется и характеризуется актуальное значение природно-ресурсного фактора в российской политике. Делается вывод о том, что, несмотря на обусловленное объективными причинами (пандемия COVID-19, санкции, падение добычи вследствие истощения запасов, наступление конкурентов, продвигающих сжиженный природный газ, и т. п.) временное сокращение доли нефтегазовых доходов в структуре государственного бюджета РФ, поступления от продажи природных ресурсов в целом остаются его основой. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильное функционирование неопатримониальной власти и поддерживает механизм ее легитимации, основанный на прагматическом и инструментальном согласии.
Нефтедоллары, «нефтяное проклятие», петропо-литика, природные ресурсы, российская политика, топливно-энергетический комплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/149134330
IDR: 149134330 | УДК: [32“312”+330.15](470+571) | DOI: 10.24158/pep.2021.4.1
Текст научной статьи Фактор природных ресурсов в современной российской политике
В последнее время делается все больше заявлений о заметном сокращении значения доходов от реализации природных ресурсов для формирования государственного бюджета, принятия политических решений, поддержки международного статуса России. Оптимистично настроенные комментаторы сделали вывод о возросшей эффективности политической системы и об увязываемом с этим подъеме несырьевых секторов экономики. В текущих научных исследованиях, посвященных факторам устойчивости российского политического режима, тема эксплуатации природных ресурсов отодвигается на задний план; в центр внимания ставится стабильность властной коалиции, достигнутой в ходе политических маневров главы государства по консолидации правящего класса, а также усиление репрессий и давления в условиях, якобы, заметного ослабления рентно-ресурсного фактора, значения нефтедолларов и т. д.
Однако комплексный анализ, выполненный с использованием современной концептуальной призмы, позволяет усомниться в утверждениях об уменьшении роли природных ресурсов в функционировании автократий и сделать иное заключение. В качестве доказательства представляется настоящее исследование.
Объяснение корреляции между фактором природных ресурсов и политическим процессом восходит к посвященным более общим вопросам экономического и политического развития трудам С. Липсета [1], идеи которого продолжили разрабатывать К. Бойкс, Т. Ванханен, А. Пшевор-ский и др. [2]. Выводы этих авторов применительно к теме данной статьи означают, что высокие доходы (главным образом нефтедоллары), полученные от продажи природных ресурсов, прежде всего, углеводородов, способствуют установлению и поддержанию определенного политического порядка (петрополитики в терминологии Т. Фридмана). Если финансовые средства направляются на нужды общественности и с целью государственного развития в соответствии с законодательством, исполняемым правительством, наделенным полномочиями в ходе свободных и честных выборов, то фактор природных ресурсов укрепляет демократию. Напротив, если нефтедоллары (или вообще природно-ресурсная рента) распределяются по собственному усмотрению узкой группой тесно связанных между собой лиц (кликой, кланом и т. д.) без эффективного общественного контроля и в обход реальных демократических процедур, то фактор природных ресурсов становится основанием для стабильности авторитарной системы.
Оба случая изучены довольно обстоятельно. Установлено, например, что доходы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) позволяют правящему классу обильно субсидировать ключевые общественные группы (государственных служащих и др.) и профессиональные ассоциации (армию, полицию, судей, прокуратуру, спецслужбы), которые охраняют неприкосновенность и стабильность системы. По остаточному принципу нефтедоллары направляются другим социальным группам с целью поддержания относительного общественного спокойствия и легитимности системы. М. Росс отмечает, что отсутствие в стране демократической власти и системы сдержек и противовесов, а также поступление в бюджет больших финансовых средств ведут к уменьшению подотчетности правительства [3]. Важный вывод автор сделал в ходе сравнения стран по экспорту нефти (в процентах ВВП) и уровню демократии в соответствии с индексом Polity: масштабный экспорт нефти и газа отрицательно влияет на демократию и демократизацию, препятствует народовластию [4, c. 325]. Справедливости ради стоит отметить, что в таких нефтеэкспортирующих странах, как Индонезия (в 1950–1957 гг.), Бразилия, Венесуэла (до 1998 г.) и Мексика, наблюдалась иная картина – развитие различных форм демократической практики.
В целом вряд ли можно сомневаться в том, что регулярное поступление крупных доходов от продажи природных ресурсов является основанием негласного соглашения между правящим классом и общественными группами, что подразумевает обмен денежных субсидий на лояльность. Иными словами, государство за счет нефтедолларов (и/или иной природно-ресурсной ренты) обеспечивает гражданам гарантию относительного благосостояния. Направленность работы такого рода механизма напрямую зависит от доминирующего типа политической культуры. Если преобладает гражданская ориентация, то политическая система, как было сказано выше, будет двигаться в сторону демократии. Если укоренены парокиальные и/или подданнические установки, то политическая система останется консолидированной автократией. С. Люкес подчеркивает, что «предпочтение системы сохраняется не просто рядом отдельных поступков, но что важнее, общественно структурированным и культурно обусловленным поведением групп, а также практикой институтов» [5, с. 22].
Таким образом, именно постоянные и высокие доходы от продажи природных ресурсов в сочетании с преобладающими ориентациями граждан лежат в основе стабильности экспортирующих сырье политических систем, обеспечивают устойчивость политического курса, легитимность и согласие граждан с политическим порядком. Последние также обусловлены типом политической культуры, распространенным в том или ином обществе.
М. Манн и Ю. Хабермас различают несколько оснований для принятия власти гражданами: – принуждение более сильной стороной и/или подчинение приказу вышестоящего;
-
– одобрение по привычке или традиции;
-
– апатичное принятие;
-
– одобрение по причине отсутствия реальных альтернатив (прагматическое согласие);
-
– принятие в силу личной выгоды (инструментальное согласие);
-
– одобрение на основе анализа ситуации и доступной информации (нормативное согласие);
-
– рациональный выбор, базирующийся на наиболее полных сведениях при максимальном использовании других возможностей (идеальное нормативное согласие) [6].
Легко заметить, что первые пять оснований для согласия свойственны авторитарным и тоталитарным системам с парокиальной и/или подданнической культурой, а последние два – демократическим системам с участнической/гражданской культурой.
Представленный перечень дополняет важное наблюдение, сделанное П. Бакраком и М. Баратцем относительно характера власти в государстве. Исследователи заметили, что «конечно, власть осуществляется, когда “А” участвует в принятии решений, которые оказывают воздействие на “Б”. Но власть также осуществляется, когда “А” прилагает усилия для создания или укрепления социальных или политических ценностей и институциональных практик, ограничивающих рамки политического процесса общественным рассмотрением лишь тех вопросов, которые относительно безопасны для “А”. И пока “А” преуспевает в этом, он не позволяет “Б” ради практической выгоды поднимать какие-либо вопросы, которые могли бы, при их разрешении, нанести серьезный ущерб системе предпочтений “А”» [7, с. 949].
В недемократических странах правящие группы в силу специфического приобретения ими легитимности и легитимации особенно часто используют указанную схему. Они не столько осу- ществляют свою волю, сколько создают препятствия иным акторам, направляют усилия на исключение действительно важных вопросов из публичной повестки, отвлекают внимание общественности на те проблемы, которые не представляют опасность для власти, прибегают к тактике манипулирования с помощью мощной информационно-пропагандистской машины. Работоспособность и эффективность функционирования такой схемы в странах, экспортирующих большие объемы природных ресурсов, прямо зависят от притока нефтедолларов, которые и поддерживают консенсус, прежде всего, инструментального и прагматического типов.
-
К . Бойкс, исходя из данных, полученных при исследовании стран – крупных экспортеров нефти (включая Россию), подтверждает высокую роль нефтегазовых доходов в их политике. Исследователь анализирует специфику ключевых экономических активов и отношение к ним правящих групп [8]. Если ключевые экономические активы мобильны, приобретены законным путем в ходе свободной конкуренции, то их нельзя произвольно изъять. Соответственно, правящие группы не могут установить полный контроль над этими активами и использовать их доходы в своих целях. Однако здесь возможно использование демократических механизмов наподобие справедливого распределения доходов между всеми социальными группами, что обеспечивает порядок и легитимность власти. Эта модель характерна для демократий. Напротив, немобильные активы, к которым относятся нефть, газ и другие природные ресурсы, могут быть изъяты у собственников или по инициативе общественности, или путем разного рода экономических и нормативных манипуляций, или путем захвата. Очевидно, что в авторитарных системах природные ресурсы неизбежно оказываются под полным контролем правящего класса, извлекающего из них доходы для обеспечения своего существования и легитимности. Как в первом (демократическом), так и во втором (авторитарном) случае правящие группы будут прилагать все усилия, чтобы сохранить и укрепить сложившиеся условия.
Наиболее заметным и крупным научным трудом по проблемам нефтегазового фактора в политике в последнее время стала работа Т. Митчелла. Автор, восполняя имеющийся пробел в сфере теории политики в отношении углеводородов, внимательно прослеживает цепочку «связей, которые выстраивались на протяжении более столетия между углеродными видами топлива и определенными типами демократической и недемократической политики» [9, c. 400]. Один из выводов состоит в том, что между правящими группами и населением стран, продающих природные ресурсы, была заключена негласная договоренность: держатели власти контролируют и распределяют ключевые ресурсы, а граждане не вмешиваются в государственное управление, получая за это те или иные выгоды. В демократиях доходы от углеводородов стали движущей силой развития принципов и механизмов народовластия, а в автократиях – фактором, укрепляющим единоличное правление. Таким образом, нефть является фактором формирования конкурентной элитистской модели демократии в США, корпоративистской элитистской модели демократии в Норвегии и т. д. В свою очередь, в странах Персидского залива, России, Казахстане, Туркменистане нефть и газ обусловили становление иной системы, которую М. Вебер назвал бы патримониальной, а Ш. Эйзенштадт – неопатримониальной [10].
Стоит напомнить, что речь идет о традиционном типе господства, в котором верховный правитель полностью контролирует ключевые ресурсы. В обмен на абсолютную лояльность и подчинение он дает доступ к этим ресурсам своему ближнему окружению, которое, в свою очередь, наделяет должностями, полномочиями, активами людей из своих команд, осуществляющих оперативное проектное управление в важнейших отраслях экономики. Тем самым выстраивается вертикаль патрон-клиентской власти, реализуемой посредством неформальных практик. При формальной модернизации традиционных обществ, как заметил Ш. Эйзенштадт, возникает нео-патримониализм как тип экономического доминирования центра над периферией, выражающийся в господстве кланов и клик, воспроизводящих неформальные практики за фасадом современных социально-политических институтов [11]. Г. Хейл охарактеризовал постсоветские автократии как «патронажное президентство» [12, с. 133]. Н. Робинсон сделал вывод о том, что российская политическая система является неопатримониальной по своей природе [13, с. 298].
Согласно типологии А.А. Фисуна, политическая система России относится к султанистскому неопатримониализму, характеризующемуся сильной персонифицированной властью, личным контролем верховного правителя над экономической и политико-государственной сферой, преобладанием неформальных практик [14, с. 172]. Последние рассматриваются как неформальные институциональные формы взаимодействия между политическими акторами, оказывающими существенное влияние на реальную политическую практику [15]. В свою очередь, Дж. Лэгрой указал, что вся система государственного управления России – это «имитация западных образцов при сохранении традиционного для страны своеобразия отношений власти» [16, с. 89].
Очерченная концептуальная рамка позволяет проанализировать и определить настоящий статус фактора природных ресурсов в современной российской политике. Обратимся к эмпирическим данным, представленным на официальной сайте Счетной палатой РФ [17]. В первом полугодии 2020 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете составила 29,3 %, что ниже на 13,9 %, чем за аналогичный период 2019 г. (когда она была на отметке 43,2 %), а в целом в российской экономике эта доля сократилась на 1,5 процентных пункта и достигла уровня 2,3 % ВВП (всего в 2020 г. – 35,4 %). При сравнении с показателями экспорта нефти в ВВП таких стран, как Саудовская Аравия, Норвегия, Венесуэла и др., намного превышающими российский предел, в совокупности с рядом других (например, ростом доходов от экспорта зерна на 20 %), рассчитанных за последние пять лет, позволительно, на первый взгляд, сделать выводы о том, что Россия «слезла с нефтяной иглы», о приближении структуры доходов ее бюджета к модели западных стран. Эти заключения были бы правомерны в случае естественного, постоянного и долговременного увеличения объемов доходов от производств иных типов, прежде всего, высокотехнологичных и наукоемких, и, соответственно, выдвижения на передний план во внутренней политике представителей этих новых отраслей и отходом топ-менеджмента ТЭК на второстепенную роль.
Однако более глубокое рассмотрение показывает, что причины указанного явления скрыты в других обстоятельствах. Среди таковых необходимо отметить сначала те, которые лежат на поверхности: относительно невысокое качество нефти марки Urals, истощение запасов нефти и газа, большой износ и устарелость основных фондов российского ТЭК и др. К этому следует добавить неблагоприятные внешнеполитические обстоятельства: антироссийские санкции, негативное отношение зарубежного истеблишмента к российскому правящему классу, поражения «Газпрома» и «Роснефти» в судебных процессах в Европе и т. д. Наконец, необходимо учесть ситуацию на мировом рынке (падение цен на углеводороды), а также коронакризис (резкое снижение спроса на сырье). Вместе с тем «Роснефть» не только не теряет позиции, но наращивает ресурсы, консолидирует активы, поглощает конкурентов. Столь же сильные позиции внутри России имеет и «Газпром». Как известно, обе эти компании возглавляют наиболее близкие президенту люди.
Следующая группа обстоятельств лежит в финансовой сфере. Солидный рост бюджетных поступлений в размере почти 1 трлн р. в апреле 2020 г., не связанных с нефтью и газом, – это экстраординарное событие, за которым стоят два крупных единовременных взноса. Наибольшую долю составили финансовые средства от продажи государственной доли в ПАО «Сбербанк»; остальная часть – это 100 млрд р., полученных от аукционной продажи прав на долю квот вылова водных биоресурсов.
Наконец, к обстоятельствам третьего рода можно отнести заметное увеличение доходов от экспорта драгоценных металлов (всего 4,6 % в общем объеме), в первую очередь золота и продовольственных товаров, особенно зерновых (5,1 % в общем объеме) в сравнении с 2019 г. Следует учесть и то, что по данным, представленным на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ, доля необработанной руды, соли и других минералов в общем объеме российского экспорта составила 36,3 % [18]. Таким образом, при сложении всех долей доходов от экспорта сырья, поступивших в государственный бюджет РФ в 2020 г., получается показатель 71,7 % (нефть и газ – 35,4 %; другие природные ресурсы – 36,3 %).
Можно заключить, что снижение доли доходов от продажи нефти и газа в государственном бюджете России и ВВП в 2020 г. вряд ли можно трактовать как сокращение роли ресурсного фактора в российской экономике и политике, которые тесно связаны в силу неопатримониального характера режима. Как видно, доля углеводородов сжалась по объективным причинам, сводящимся к неблагоприятной конъюнктуре на внешних рынках. Сейчас мы имеем дело не с сокращением политического и экономического значения нефти, газа и других природных ресурсов (и полученных от них доходов), а с заметным снижением объемов их добычи и продажи, что, в свою очередь, также оказывает влияние на политический процесс в России. Внутриполитические позиции фигур из ближнего окружения инкумбента, возглавляющих нефтяные и газовые корпорации, укрепляются. В целом фактор природных ресурсов сохраняет свое ведущее значение для обеспечения легитимности на основании инструментального и прагматического согласия, для сохранения стабильности политической системы и статус-кво правящего класса.
Ссылки:
Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична
Список литературы Фактор природных ресурсов в современной российской политике
- Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American Political Science Review. 1959. Vol. 53, iss. 1. P. 69-105. https://doi.org/10.2307/1951731.
- Boix C. Democracy and Redistribution. Cambridge, 2003. 264 p.; Przeworski A., Alvarez M., Cheibub J., Limongi F. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge, 2000. 342 p.; Vanhanen T. Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries. L., 2003. 320 p.
- Ross M.L. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations. Princeton, 2012. 312 p.
- Ross M.L. Does Oil Hinder Democracy? // World Politics. 2001. Vol. 53, iss. 3. P. 325-361. https://doi.org/10.1353/wp.2001.0011.
- Lukes S. Power: A Radical View. L., 1974. 64 p.
- Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. М., 2010. 264 с.; Mann M. The Social Cohesion of Liberal Democracy // American Sociological Review. 1970. Vol. 35, iss. 3. P. 423-439. https://doi.org/10.2307/2092986.
- Bachrach P., Baratz M.S. The Two Faces of Power // The American Political Science Review. 1962. Vol. 56, iss. 4. P. 947-952.
- Boix C. Op. cit. P. 2-3.
- Митчелл Т. Углеродная демократия: Политическая власть в эпоху нефти. М., 2014. 408 с.
- Вебер М. Традиционное господство // Прогнозис. 2007. № 2. С. 150-165; Eisenstadt S.N. Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. L., 1973. 95 p.
- Eisenstadt S.N. Op. cit. P. 5.
- Hale H.E. Regime Cycles Democracy, Autocracy, and Revolution in Post-Soviet Eurasia // World Politics. 2005. Vol. 58, iss. 1. P. 133-165. https://doi.org/10.1353/wp.2006.0019.
- Robinson N. Institutional Factors and Russian Political Parties: The Changing Needs of Regime Consolidation in a Neo-Patrimonial System // East European Politics. 2012. Vol. 28, iss. 3. P. 298-309. https://doi.org/10.1080/21599165.2012.685629.
- Фисун А.А. К переосмыслению советской политики: неопатримониальная интерпретация // Политическая концепто-логия. 2010. № 4. С. 158-187.
- Хелмке Г., Левитски С. Неформальные институты и сравнительная политика // Прогнозис. 2007. № 2. С. 188-211.
- Lagroye J. Sociologie Politique. P., 1998. 624 p.
- Оперативный доклад за 2020 год [Электронный ресурс] // Счетная палата Российской Федерации. URL: https://ach.gov.ru/audit/ (дата обращения: 12.04.2021).
- Суммы таможенных платежей, поступающих в бюджет [Электронный ресурс] // Федеральная таможенная служба. URL: https://customs.gov.ru/activity/results/byudzhetnaya-otchetnost- (дата обращения: 12.04.2021).