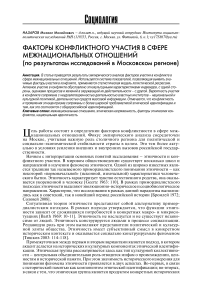Факторы конфликтного участия в сфере межнациональных отношений (по результатам исследований в Московском регионе)
Автор: Назаров Михаил Михайлович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье приводятся результаты эмпирического анализа факторов участия в конфликте в сфере межнациональных отношений. Используется система показателей, позволяющая выявить значимые факторы участия в конфликте, и применяется статистическая модель логистической регрессии. Активное участие в конфликте обусловлено этнокультурными характеристиками индивидов, с одной стороны, оценками процессов и явлений в окружающей их действительности - с другой. Вероятность участия в конфликте сопряжена с неудовлетворенностью деятельностью властных институтов - национальной и культурной политикой, деятельностью средств массовой информации. Отмечается, что конфликтность и проявления этноцентризма сопряжены с более широкой проблематикой этнической идентификации и тем, как это соотносится с общероссийской идентификацией.
Межнациональные отношения, этническая напряженность, факторы этнических конфликтов, национальная идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170167688
IDR: 170167688
Текст научной статьи Факторы конфликтного участия в сфере межнациональных отношений (по результатам исследований в Московском регионе)
Начнем с интерпретации основных понятий исследования – этничности и конфликтного участия. В мировом обществоведении существует несколько школ и направлений в изучении феномена этничности. Одной из широко известных является традиция так называемого примордиалистского понимания этничности – как некоторой «первоначальной» (исконной, изначальной) характеристики человеческого бытия. Этничность характеризует чувство естественного родства, она оказывается укорененной в человеке [Geertz 1963: 110]. В рамках примордиалистского подхода к этничности выделяют эволюционно-историческое и социобиологическое направления. Характерно, что исследования в рамках данной парадигмы выполнялись как в советский, так в новейший период российской истории [Бромлей 1972; Cоловей 2008].
Ситуативная теория этничности представляет собой альтернативу примор-диалистским взглядам. В рамках подхода утверждается, что функции этнич-ности зависят от сложившихся потребностей в конкретных макро- и микроситуациях [Barth 1969: 10-11]. Этничность не наследуется и не существует независимо от людей. Этничность конструируется людьми в процессе социализации. Решающую роль при этом выполняют представители политической и культурной элиты общества. Этничность имеет субъективный смысл в конкретном историческом контексте и оказывается социально конструируемым феноменом [Тишков 2003: 114-118].
Промежуточным между первым и вторым вариантами является подход, в котором акцент делается на исторических и культурных компонентах этнической идентификации. Этническая группа рассматривается здесь как тип культурной коллективности – центральная объединительная роль отводится мифам о происхождении, ценностям и исторической памяти. При этом значимость исторического измерения для понимания феномена этничности проявляется в двух аспектах. Во-первых, в связи с исторической памятью как компонентом этнической идентификации; во-вторых, в связи с тем, что этническая группа является продуктом конкретных исторических сил, т.е. подлежит историческим изменениям [Smith 1990: 20]. Именно этого подхода мы будем придерживаться в ходе последующего изложения.
Как известно, межэтнические границы зачастую не совпадают с распределением экономического благосостояния. В этой связи объяснение причин межэтнической напряженности и конфликтов часто основывается на сравнении экономических позиций этнических групп [Lijphart 1994: 259]. В основе данного подхода лежит идея депривации – одного из важных факторов социального протеста в целом. Установки, ожидания индивида и группы определяются системой соотнесения – совокупностью сравнений и наблюдений, на базе которых выносятся оценки конкретной ситуации. Растущие расхождения между ожиданиями и реальностью способствуют возникновению мотиваций по включению субъекта депpивации в ту или иную форму участия в конфликте. На уровне субъекта цель этих действий состоит в снятии препятствий для реализации первоначальных ожиданий [Blalock 1989: 56-59; Gurr, Harff 1994].
Иной акцент в объяснении причин конфликтов связан с обращением к идее эволюционной предрасположенности к этническому фаворитизму. Этнические установки закрепляют в сознании деление на «своих» и «чужих», что затем находит проявление на уровне поведения. При этом корни межэтнических конфликтов обусловлены борьбой групп за ограниченные ресурсы. То есть, контроль над землей и территориями вытекает из борьбы групп за существование и обладание ресурсами. Поэтому чем глубже популяция разделена в этническом отношении, тем больше конфликтов интересов в ней канализируется по этническим линиям. Отсюда следует, что эволюционные корни политики лежат в необходимости теми или иными средствами разрешать конфликты, связанные с ограниченными ресурсами [Ванханен 2014: 47-52].
Проблематика современных конфликтов в сфере межнациональных отношений рассматривалась многими российскими авторами. Наряду с прочими походами, продуктивной является идея, что в условиях неоднозначных и разнонаправленных процессов российской трансформации общая структура конфликтного взаимодействия образуется пересечением полей разнотипных моноконфликтов – политических, экономических, социокультурных и т.д. [Якимец, Никовская 2005: 81]. В рамках данной работы конфликтный потенциал межнациональных отношений рассматривается как результирующая комплекса обстоятельств, имеющих социальноэкономические, исторические, культурно-языковые и прочие основания. Для ответа на вопрос о том, какие из факторов имеют наибольшее влияние на участие в конфликте, в работе используется система показателей. Каждая группа показателей получала соответствующие операциональные определения. В обобщенном виде система показателей анализа конфликтного участия приведена в табл. 1.
Эмпирической базой работы являются сравнительные исследования, проведенные Институтом социально-политических исследований РАН в Москве: 650 респондентов в 2010 г.; 747 респондентов в 2014 г. Отбор респондентов проводился методом квотной пропорциональной выборки со связанными параметрами (род занятий, пол, возраст). Метод сбора первичной информации – самозаполняемый опросник.
Какое место проблематика межнациональных отношений занимает в массовом сознании? Показательными в этой связи являются ответы респондентов на вопрос о том, какие проблемы беспокоят их в повседневной жизни. Так, в Москве на первом месте находилась позиция «дороговизна жизни» – 44%; далее следовали группы проблем, получившие от 28% до 34% упоминаний: «дорогое и неквалифицированное медицинское обслуживание»; «произвол и бюрократизм чиновников»; «рост преступности»; «рост наркомании, алкоголизма»; «неконтролируемый поток мигрантов» (данные 2014 г.). Вместе с тем нельзя сказать, что проблемы в области межэтнического взаимодействия находятся на периферии общественного внимания и не затрагивают повседневную жизнь людей: на «ухудшение отношений между людьми разных национальностей» обратили внимание 24% опрошенных.
Характерно, что приведенное выше распределение актуальных проблем было присуще и другим регионам, в которых мы проводили исследование. Факт того,
Таблица 1
Потенциал конфликтного участия в сфере межнациональных отношений
Возможность принятия участия в конфликте на стороне своей национальной группы
Социально-экономическая сфера
Общая оценка социально-экономического положения в стране
Перечень беспокоящих проблем в данной области
Социально-политическая сфера
Общая оценка социально-политического положения в стране Индекс доверия основным институтам государства и общества Оценка обеспечения норм демократического общества
Общая оценка политической системы общества
Сфера межнациональных отношений
Оценка состояния межнациональных отношений в Москве
Уровень распространенности негативных проявлений в межнациональных отношениях в повседневной жизни
Национальности, к которым существует неприязненное отношение
Суждения о политике в сфере межнациональных отношений
Идеологические представления
Уровень поддержки различных политико-идеологических представлений, таких как демократия, свобода, права человека, безопасность, общественный порядок, социальная справедливость и др.
Показатели эмоционального настроя
Типичное настроение последнего времени
Социально-демографические показатели
Пол, возраст, доход, уровень образования, этническая группа, конфессиональная принадлежность, длительность проживания в Москве что межнациональные отношения не находятся на первых позициях в числе актуальных проблем жизни россиян, но, тем не менее, привлекают внимание многих респондентов (на уровне 20% опрошенных), отмечается и по результатам других эмпирических исследований1.
Заметим, что при внимательном рассмотрении вопросы межнациональных отношений оказываются связанными со многими проблемами, указанными выше. В этой связи остановимся на общей оценке населением состояния межнациональных отношений в столице. По результатам исследования 2014 г. 15,0% респондентов считали, что межнациональные отношения стабильны (без напряженности); 43,6% – что имеется межнациональная напряженность; 35,5% – налицо сильная межнациональная напряженность, возможны конфликты; 5,9% опрошенных затруднились с ответом. Таким образом, на наличие напряженности в данной области (с различной степенью ее выраженности) указали около 80% респондентов. Отражение межнациональной напряженности в массовом сознании так или иначе сопряжено с реалиями повседневной жизни москвичей.
Немаловажными в этой связи являются следующие обстоятельства. За последние годы этническая и конфессиональная структура мегаполиса серьезно усложнилась. Идет интенсификация притока переселенцев при одновременном естественном сокращении численности коренных жителей.
Быстрое изменение национального состава населения как за счет легальных, так и за счет нелегальных мигрантов неизбежно привело к ослаблению толерантности в интернациональных отношениях со стороны коренных национальностей. Согласно результатам многолетних исследований, Москва является одним из регионов, в которых уровень межнациональной напряженности является одним из наиболее высоких в стране [Иванов, Назаров, Кублицкая 2012: 325].
Напряженность в межнациональных отношениях может перерастать в конфликтные действия. В рамках исследования был проведен анализ того, в какой мере респонденты считали возможным принять участие в конфликте на стороне своей национальной группы. Сравнительные данные о динамике конфликтного участия приведены в табл. 2.
Таблица 2 Распределение ответов на вопрос: «Примете ли Вы участие в конфликте в интересах своей национальной группы?», %
|
Варианты ответов |
Москва, 2010 |
Москва, 2014 |
|
Да, безусловно |
12,2 |
15,1 |
|
Это зависит от обстоятельств |
42,0 |
47,2 |
|
Ни в коем случае |
29,5 |
27,9 |
|
Затрудняюсь ответить |
16,3 |
9,8 |
Приведенные данные показывают, что ориентации на конфликтное участие в интересах своей национальной группы остаются в столице достаточно стабильными. Причем установки на участие в конфликте – «безусловное» и «в зависимости от обстоятельств» – разделяли более половины опрошенных.
Для определения факторов, детерминирующих конфликтное участие, использована статистическая модель логистической регрессии. Эмпирическую основу модели составили данные, полученные с помощью эмпирических индикаторов упомянутой выше системы показателей (по результатам исследования в Москве в 2014 г.)
Суть процедуры логистической регрессии состояла в определении того, какие из факторов в наибольшей степени влияют на зависимую переменную – готовность к конфликтным действиям на стороне своей национальной группы. Модель строилась для вариантов включенности в протест – «да, безусловно» или «все зависит от обстоятельств». При этом в качестве независимых факторов выступал широкий круг показателей, описывающих отношение респондентов к окружающей их социальной действительности. В качестве процедуры моделирования была выбрана логистическая регрессия с шаговым отбором переменных методом условного включения. R -квадрат Нэйджелкерка полученной модели составляет 0,286. Это означает, что модель объясняет 28,6% вариации зависимой переменной.
В таблице 3 приводятся результаты модели – переменные, обладающие максимальной предсказательной силой, наиболее полно в рамках данной модели объясняющие конфликтное поведение в сфере межнациональных отношений. Необходимо учитывать, что предикторы, приведенные в таблице, являются дихотомическими (0/1), т.е. предикторы с положительным коэффициентом увеличивают стремление индивида к конфликту, предикторы с отрицательным коэффициентом – уменьшают.
Регрессионная модель фиксирует наличие совокупности переменных, обладающих наибольшими объяснительными возможностями в связи с намерениями участия в конфликте на стороне своей этнической группы. Эти переменные правомерно обобщить в несколько содержательных групп. Другими словами, в ряду значимых причин участия в конфликте можно выделить ряд обстоятельств, различных по своей природе. Понимание этих обстоятельств способствует уменьшению конфликтного потенциала, упреждению действий, дестабилизирующих ситуацию.
В социально-демографическом плане среди активных участников будут находиться мужчины относительно молодых возрастных групп – моложе 50 лет. Активное участие в конфликте обусловлено этнокультурными характеристиками индивидов, с одной стороны, оценками людьми процессов и явлений в окружающей их действительности – с другой. Полученные результаты фиксируют, что
Таблица 3
Регрессионная модель потенциала участия в конфликте на стороне своей национальной группы
|
Переменная |
В* |
Знч |
|
Принадлежность респондента к мужскому полу |
0,589 |
0,000 |
|
Принадлежность респондента к возрастной группе «старше 50 лет» |
–0,973 |
0,000 |
|
Отношение к браку близкого человека с представителем другой этнической группы: «это зависит от того, с человеком какой этнической группы заключается брак» или «отрицательно» |
0,465 |
0,007 |
|
Согласие с возможностью выделения в Москве национальных групп, жизненный уровень которых выше, чем у остальных |
0,625 |
0,000 |
|
Факт столкновения в повседневной жизни с использованием религии и чувств верующих для возбуждения вражды между людьми других этнических групп |
0,538 |
0,002 |
|
Согласие с тем, что в стране национальная политика осуществляется в ущерб национальным интересам русской нации, развитию русской культуры |
0,582 |
0,001 |
|
Оценка освещения деятельности властей в СМИ как «иногда объективное, иногда нет» |
0,414 |
0,011 |
|
Факт удовлетворенности жизнью в целом |
–0,601 |
0,000 |
|
Факт обеспокоенности несвоевременной выплатой зарплаты |
0,905 |
0,019 |
|
Факт обеспокоенности ростом преступности |
–0,508 |
0,005 |
* В – регрессионный коэффициент для предиктора
** Знч. – уровень статистической значимости. Показывает вероятность того, что коэффициент для данного предиктора не отличается значимо от нуля.
участие в конфликте оказывается более вероятным у индивидов, имеющих выраженные этноцентричные установки, социально-культурная дистанция которых чаще «замыкается» на представителей своей этнической группы. Так, ориентация на конфликт более вероятна в группах с более ярко выраженной этнической дистанцией (предпочтения брака с представителями своей этнической группы). Здесь же проявляется и роль другой переменной – выделения респондентом этнических групп, чей уровень жизни кажется более высоким.
Наряду с этим конфликтное участие сопряжено с оценками людьми социальноэкономических явлений и общим социально-психологическим состоянием. Вероятность участия в конфликте на стороне своей национальной группы повышается среди тех, кто обеспокоен несвоевременной выплатой зарплаты, не удовлетворен своей жизнью в целом.
Есть еще одна группа переменных, которые детерминируют участие в конфликте. Это несогласие респондентов с деятельностью институтов. Согласно нашим данным, вероятность участия в конфликте сопряжена с неудовлетворенностью национальной и культурной политикой; деятельностью средств массовой информации. Согласно регрессионной модели вероятность конфликтного участия в Москве связана с согласием с тезисом о том, что национальная политика осуществляется в ущерб национальным интересам русской нации, развитию русской культуры. Здесь же важным оказывается невысокая удовлетворенность деятельностью СМИ по освещению действий властей. Значимой переменной является также факт столкновения респондентов в их повседневной жизни с использованием религии и чувств верующих для возбуждения вражды между людьми других этнических групп.
Очевидно, что конфликтность и проявления этноцентризма сопряжены с более широкой проблематикой этнической идентификации и тем, как это соотносится с общероссийской идентификацией. Это тем более важно, поскольку межэтнические отношения предполагают, как минимум, две взаимодействующие стороны. Поэтому рост установок на конфликтное участие одной из сторон неизбежно предполагает обратную реакцию с другой стороны. Тем самым формируется опасная спираль межэтнической напряженности.
Важно учитывать, что общероссийская идентичность находится в стадии формирования. Распад СССР и последующие кардинальные реформы сопровождались трансформациями гражданской и социально-политической идентичности. Прежняя советская идентичность была разрушена, и вполне естественно, что в условиях изменения норм, ценностей, культурных приоритетов на первый план стала выходить этническая идентичность. В такой ситуации этническая общность казалась многим более устойчивой и надежной защитой [Дробижева 2003: 21].
В связи с перспективами развития общероссийской идентичности высказываются разные точки зрения.
Исследователи отмечают, что в настоящее время в массовом сознании наблюдается преобладание общероссийской идентичности. К 2011 г. российская идентичность стала не только самой распространенной среди наиболее значимых идентичностей – ощущение связи с ней стало наиболее высоким. Вместе с тем наблюдается актуализация этнонационального самосознания как русских, так и других этнических групп. Считается, что растущая российская идентичность, совмещенная с этнической идентичностью, интегрирует людей, а также заставляет задуматься о справедливости существующей системы распределения ресурсов, способствует солидарности против несправедливости [Двадцать лет… 2011: 214, 320].
Другие авторы делают существенно более радикальный вывод из эмпирически наблюдаемых трендов роста этнического самосознания. В этой связи выдвигается идея о том, что в последнее десятилетие отчетливо наметилась тенденция перехода от традиционной для России культурной к биологической матрице этнич-ности. Считается, что этничность является единственным признаком, объединяющим всех русских и одновременно отличающим их от всех других. Причем этнизация сознания представляет собой способ адаптации к новой социальной среде и результат преодоления глубокого кризиса русской идентичности в целом [Соловей 2008: 409]. Причем данное утверждение предполагает сомнительные, на наш взгляд, следствия политического характера. Например, речь идет о тезисе о государстве русских как единственном способе выживания страны [Соловей 2008: 472]. Это, очевидно, ведет к повышению межэтнической напряженности, проявлениям сецессии и в целом способствует дестабилизации обстановки внутри страны, тем более что выдвижение на первый план биологического фактора не учитывает культурно-исторические обстоятельства формирования сообщества этносов, проживающих в России.
С нашей точки зрения, целесообразно исходить из того, что Россия представляет собой полиэтническую общность. В силу исторических обстоятельств, равно как и своей численности, ядро этой общности составляет русский этнос. Однако это обстоятельство нисколько не умаляет значимости и самобытности других этнических групп, проживающих в Российской Федерации. Справедливым, на наш взгляд, является представление о России как полиэтничной цивилизации, скрепленной русским культурным ядром. Очевидно, что для развития такой общности необходимо совершенствование межэтнических и этноконфессиональных отношений в направлении снижения конфликтности и повышения толерантности. Вместе с тем это предполагает снижение политизации этничности за счет выдвижения на первый план повестки дня тех целей развития страны, которые принимаются всеми россиянами независимо от этнической принадлежности.
В этой связи стоит упомянуть о ценностях социально-политического плана, имеющих надэтнический и надконфессиональный характер. Согласно нашему исследованию, проведенному в многоэтничных регионах, лидирующими ценностями во всех из них являются патриотизм, социальная справедливость, права человека – на это указали от 47% до 40% респондентов [Назаров 2014: 67]. Показательно, что выделенные ценности оказываются лидирующими как среди населения в целом, так и среди представителей различных этнических групп. Характерно также и то, что лидерство указанных ценностей мы наблюдаем в ходе эмпирических исследований в многоэтничных регионах на протяжении последних 10–15 лет исследований.
Список литературы Факторы конфликтного участия в сфере межнациональных отношений (по результатам исследований в Московском регионе)
- Бромлей Ю.В. 1972. Этнос и этнография. М.: Наука. 284 c
- Ванханен Т. 2014. Этнические конфликты: их биологические корни в этническом фаворитизме. М.: Кучково поле. 288 с
- Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров (под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова). 2011. М.: Весь Мир. 328 с
- Дробижева Л.М. 2003. Проблемы межэтнических отношений в постсоветской России. -Философские исследования. № 2. С. 8-31
- Иванов В.Н., Назаров М.М., Кублицкая Е.А. 2012. Изменение межэтнических и межконфессиональных отношений в Москве. -Россия: модернизация системы управления обществом. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2011 г. М.: ИСПИ РАН. 384 с
- Назаров М.М. 2014. K вопросу о политико-идеологических представлениях россиян. -Власть. № 5. С. 64-71
- Соловей В.Д. 2008. Кровь и почва русской истории. М.: Русский мир. 480 с
- Тишков В.А. 2003. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука. 544 с
- Якимец В.Н., Никовская Л.И. 2005. Сложносоставные конфликты -атрибут постсоциалистической трансформации. -Социологические исследования. № 8. С. 77-90
- Barth F. 1969. Ethnic Groups and Boundaries. London: Allen & Unwin. 153 p
- Blalock H.M. 1989. Power and Conflict. Toward a General Theory. London: Sage. 266 p
- Geertz C. 1963. Old Society and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa. Glencoe, Ill. 310 p
- Gurr T., Harff B. 1994. Ethnic Conflict in World Politics. 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press. 256 p
- Lijphart A. 1994. Ethnic Conflict in the West. -Nationalism (ed. by J. Hutchinson, A.D. Smith). Oxford University Press. P. 258-261
- Smith A.D. 1990. National Identity. Penguin Books. 227 р