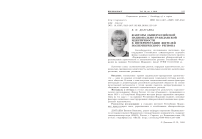Факторы общероссийской национально-гражданской идентичности в интерпретации жителей полиэтнического региона
Автор: Долгаева Евгения Ивановна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 1 (102) т.26, 2018 года.
Бесплатный доступ
Введение: становление единой национально-гражданской идентичности - одно из важных условий укрепления социальной системы российского общества. В связи с этим актуален социологический анализ факторов интеграции и дезинтеграции российской гражданской общности на основе качественной методологии с точки зрения смыслов, распространенных в обыденном сознании жителей полиэтнического региона. Материалы и методы: в статье анализируются результаты социологического исследования «Народ России: что нас объединяет», проведенного в июле 2016 г. в Республике Мордовия методом фокус-группового интервью. Одна из его задач - на примере Республики Мордовия выявить основные факторы социального конструирования общероссийской национально-гражданской идентичности. Результаты исследования: в сознании жителей Республики Мордовия присутствуют идеи, укрепляющие и ослабляющие общероссийскую национально-гражданскую идентичность, требующие учета при формировании государственной политики в этой области. Позитивное влияние на общероссийское самосознание оказывают следующие факторы: восприятие культурного многообразия российской гражданской нации как ее естественного состояния; убежденность в отсутствии противоречий между общероссийской национально-гражданской идентичностью и этническим, религиозным, региональным самосознанием, идея общей ментальности; признание объединяющей роли русского народа, русского языка и русской культуры в конструировании российской гражданской нации; отношение к государству как гаранту единого исторического, правового, культурного социализирующего пространства для взаимодействия этносов, конфессий, региональных социумов; одинаковое понимание внутренних проблем и внешних угроз, любовь к родине и готовность ее защищать. Ослабляют общероссийскую национально-гражданскую идентичность: неприятие частью общества социокультурной неоднородности России; разрушительный потенциал социальных неравенств, включая региональную дифференциацию по уровню и качеству жизни; различия в гражданском самосознании молодежи и старших поколений россиян, обусловленные неодинаковым историческим опытом и содержанием социализации личности. Обсуждение и заключения: в целом исследование подтвердило существование в обыденном сознании жителей Республики Мордовия представлений об иерархии коллективных идентичностей с общероссийским национально-гражданским самосознанием во главе.
Полиэтнический регион, иерархия идентичностей, национально-гражданская идентичность, региональные различия, религиозные различия, этнические различия
Короткий адрес: https://sciup.org/147222773
IDR: 147222773 | УДК: 316.6.52 | DOI: 10.15507/2413-1407.102.026.201801.123-140
Текст научной статьи Факторы общероссийской национально-гражданской идентичности в интерпретации жителей полиэтнического региона
Социология региона / Sociology of a region
Введение: становление единой национально-гражданской идентичности — одно из важных условий укрепления социальной системы российского общества. В связи с этим актуален социологический анализ факторов интеграции и дезинтеграции российской гражданской общности на основе качественной методологии с точки зрения смыслов, распространенных в обыденном сознании жителей полиэтнического региона.
Материалы и методы: в статье анализируются результаты социологического исследования «Народ России: что нас объединяет», проведенного в июле 2016 г. в Республике Мордовия методом фокус-группового интервью. Одна из его задач — на примере Республики Мордовия выявить основные факторы социального конструирования общероссийской национально-гражданской идентичности.
Результаты исследования: в сознании жителей Республики Мордо вия присутст вуют идеи, укрепляющие и ослабляющие общероссийскую
ДОЛГАЕВА Евгения Ивановна, доцент кафедры социологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета, кандидат социологических наук (430005, Россия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68) (e-mail: . ORCID:
национально-гражданскую идентичность, требующие учета при формировании государственной политики в этой области. Позитивное влияние на общероссийское самосознание оказывают следующие факторы: восприятие культурного многообразия российской гражданской нации как ее естественного состояния; убежденность в отсутствии противоречий между общероссийской национально-гражданской идентичностью и этническим, религиозным, региональным самосознанием, идея общей ментальности; признание объединяющей роли русского народа, русского языка и русской культуры в конструировании российской гражданской нации; отношение к государству как гаранту единого исторического, правового, культурного социализирующего пространства для взаимодействия этносов, конфессий, региональных социумов; одинаковое понимание внутренних проблем и внешних угроз, любовь к родине и готовность ее защищать. Ослабляют общероссийскую национально-гражданскую идентичность: неприятие частью общества социокультурной неоднородности России; разрушительный потенциал социальных неравенств, включая региональную дифференциацию по уровню и качеству жизни; различия в гражданском самосознании молодежи и старших поколений россиян, обусловленные неодинаковым историческим опытом и содержанием социализации личности.
Обсуждение и заключения: в целом исследование подтвердило существование в обыденном сознании жителей Республики Мордовия представлений об иерархии коллективных идентичностей с общероссийским национально-гражданским самосознанием во главе.
Введение. В условиях этнического, религиозного и регионального многообразия становление единой национальногражданской идентичности — одно из основных условий укрепления социальной системы российского общества. Значимость научного осмысления этой проблемы подтверждается актуализацией рисков распространения в современном мире межэтнической, межконфессиональной напряженности и регионального сепаратизма, усилением внешнего экономического и политического давления на Россию. В связи с этим социологический анализ факторов интеграции и дезинтеграции российской гражданской общности представляется актуальной научной проблемой, особенно в контексте трактовок, распространенных в обыденном сознании.
Обзор литературы. В зарубежной социологии проблематика национальной идентичности включена в контекст мировых интеграционных процессов и противоречий: анализируется влияние глобализации на национальную идентичность [1], рассматривается формирование новых наднациональных идентичностей (европейской, транснациональ- ной) [2]. Д. Джейкобс и P. Майер пришли к выводу, что европейская идентичность формируется как продолжение национальных идентичностей; границы между гражданами и иностранцами в современной Европе переносятся на новый уровень, формируя постнациональную идентичность [3, с. 32]. Европейские социологические исследования подтверждают эту тенденцию: в 2017 г. 70 % респондентов идентифицировали себя с гражданами Европейского союза и этот показатель растет1.
В методологии исследований доминирует конструктивистский подход, рассматривающий национальную идентичность как продукт целенаправленной деятельности политических элит. В его рамках продолжается дискуссия о применении категории «идентичность» в социологическом анализе. Р. Брубейкер пишет о «кризисе перепроизводства и последующей девальвации смысла» этого понятия2, с чем можно согласиться: чрезмерно широкое и не всегда оправданное употребление данной категории приводит к размыванию ее содержания. Представляет интерес предлагаемая ученым альтернативная терминология, основанная на динамическом понимании изучаемого явления: процессах идентификации и категоризации, самопонимания, саморепрезентации и самоидентификации. В свою очередь обоснованные возражения вызывает предложение Р. Брубейкера исключить из аналитического инструментария социологии категории «раса», «нация» и «класс» по причине чрезмерного влияния на их содержание обыденно-практических конструкций. Ю. Д. Гранин в ответ на это обращает внимание на «относительную самостоятельность и обратное влияние науки на социальную практику» [4, с. 128]. На наш взгляд, применительно к российской социальной реальности понятия «идентичность» и «нация» пока не исчерпали своего аналитического потенциала.
Не ослабевает научный интерес к содержанию самосознания гражданских общностей отдельных государств. Например, М. Кляйн предпринял масштабное исследование национальной идентичности современных немцев с точки зрения социальных границ и ценностных ориентаций, исторического прошлого и политических предпочтений жителей современной Германии [5].
Факторы, объединяющие граждан одного государства, рассматриваются в современной социологии с точки зрения экономической и политической интеграции мира, интенсификации миграционных процессов. Эта тема исследуется в основном при помощи изучения общественного мнения граждан различных государств. По данным Pew Research Center 2016 г., несмотря на межстрановые различия, первое место среди интегрирующих факторов занимает общий язык: на это указали 77 % европейцев, 70 % респондентов в США и Японии, 69 % жителей Австралии. По остальным факторам, фигурирующим в исследовании (обычаи и традиции, общее место рождения, религия), наблюдаются более или менее существенные разногласия как между обществами, так и внутри них3.
Проблематика социологических исследований общероссийской национально-гражданской идентичности в целом близка к повестке западных дискуссий, но имеет ряд исторически обусловленных особенностей и специфических тем, среди которых можно условно выделить три направления.
Первое анализирует понятие, структуру и факторы российской идентичности. Основные дискуссии разворачиваются вокруг категории «нация», которая в советской традиции применялась для обозначения этносов, а в современной науке означает социальную общность граждан одного государства. В. А. Тишков первым предложил рассматривать гражданскую идентичность как осознание принадлежности к российской гражданской нации. В его представлении нация — «это прежде всего форма коллективного самосознания (идентичности) людей по поводу принадлежности к определенной общности, которую они считают нацией»4. Допуская возможность сложной многоуровневой структуры российской нации, ученый определяет ее как «нацию наций». Согласно его концепции, российская гражданская идентичность имеет два уровня: первый — нации-этносы (люди одной культуры), второй — нация-государство (граждане одного государства). Таким образом, при определении российской идентичности В. А. Тишков подчеркивает интегрирующую роль государства, которое соединяет нации-этносы в единую политическую общность (российскую нацию). Некоторые положения этой концепции подвергаются критике. Во-первых, в ней сделан акцент на «лояльности государству, признании его своим»5. Во-вторых, идея деполитизации понятия «этнос» противоречит сложившейся в России общественно-политической практике [6, с. 55].
Определение гражданской идентичности Л. М. Дробиже-вой более широкое: «отождествление себя с гражданами страны, ее государственно-территориальным пространством, представления о государстве, обществе, стране, “образ мы”, чувство общности, солидарности, ответственности за ситуацию в государстве» [7, с. 8]. Автор выделяет в структуре гражданского самосознания «когнитивные, эмоциональные и регулятивные составляющие», а также ведущие «деятельностные компоненты» [Там же, с. 8], подчеркивает «много-составность» общероссийской идентичности: «Она включает в себя и государственную идентичность, и территориальную, страновую, историко-культурную» [8, с. 27]. Таким образом, объем значений, вкладываемых в понятие «идентичность», растет и в перспективе может привести к той самой девальвации смысла, о которой писал Р. Брубейкер.
Второе направление — сравнительный анализ значимости общероссийской и других коллективных идентичностей в общественном сознании, обусловленный сложными процессами постсоветской трансформации. Внимание исследователей сосредоточено на изучении потенциалов интеграции и дезинтеграции российского общества на основе гражданской, региональной и этнической идентичностей. Ведутся сравнительные исследования российского самосознания с западноевропейским [9], китайским [10].
Интересны попытки анализа иерархии коллективных идентичностей в российском социуме. М. В. Назукина и
О. Б. Подвинцев, исследуя систему территориальных идентичностей современной России, приходят к выводу, что «спайка и взаимопроникновение различных идентичностей, их совместимость и соотносимость между собой, определяют степень устойчивости каждого из больших социумов, именуемых словом “страна”» [11, с. 51]. Логическое развитие этой идеи — изучение смыслов, распространенных в обыденном сознании: определение степени совместимости различных коллективных идентичностей с общероссийской национально-гражданской.
Третье направление — анализ результатов «политики идентичности», проводимой руководством страны и регионов. Он опирается на конструктивистское понимание российской идентичности как продукта целенаправленной деятельности власти по управлению социальной реальностью [12]. На Западе успехи такой политики пока выглядят неубедительными. Актуализация этнического самосознания в России 90-х гг. XX в., его опережающее развитие по сравнению с гражданским способствовали ускорению центробежных социальных процессов. В 2000-е гг. наметилась тенденция укрепления общероссийского гражданского самосознания россиян. Социологические исследования последних лет свидетельствуют о широкой распространенности общероссийской идентичности наряду с другими видами коллективного самосознания: в 2013—2015 гг. 75—80 % опрошенных ощущали близость с гражданами России6. Процессы социальной самоидентификации россиян обусловлены в том числе государственной политикой. Поэтому вопрос о содержании общероссийской гражданской идентичности в контексте влияния на нее разнообразных субъектов власти весьма актуален.
Общим для трех направлений является представление о сложной структуре общероссийской идентичности: она рассматривается как многоуровневая, многосоставная, подверженная влиянию разнообразных общественных процессов. В отличие от западных исследований, в центре отечественного анализа изучаемой проблемы — внутренние и внешние факторы интеграции и дезинтеграции российского социального пространства в условиях исторически сложившегося культурного многообразия. Особенно важно исследование обыденных интерпретаций общероссийской национально- гражданской идентичности с точки зрения качественной методологии.
Логичной, на наш взгляд, является гипотеза об иерархическом характере повседневных представлений о российской гражданской нации, которая может восприниматься обыденным сознанием как более высокий уровень идентичности по отношению к этническому, религиозному и региональному самосознанию.
Материалы и методы. Эмпирическая проверка гипотезы основана на социологическом исследовании «Народ России: что нас объединяет», проведенном в июле 2016 г. методом фокус-группового интервью. Одна из его задач — на примере Республики Мордовия выявить основные факторы социального конструирования общероссийской национальногражданской идентичности. Состоялись 3 фокус-группы (ФГ) (по 7—9 чел. в каждой). Информанты — жители Республики Мордовия из городской (1-я, 3-я группы) и сельской (2-я группа) местности. При рекрутировании участников учитывались их пол, возраст, национальность и уровень образования. В результате группы оказались достаточно представительными по социальному составу. В каждой приняли участие мужчины и женщины самых многочисленных этносов республики разных поколений, профессий, религиозных взглядов. Дискуссии разворачивались вокруг вопроса «Как Вы считаете, являются ли все граждане России, будучи представителями разных национальностей, религий и культур, единым российским народом (по аналогии с американским, французским и др.)?».
Результаты исследования. В процессе обсуждения проблемы определились два противоположных мнения:
— россияне, несмотря на этнические, религиозные и другие различия, представляют собой единый народ;
— в России нет единого народа, различия между этносами, религиями и другими социальными группами носят непримиримый характер.
Стоит отметить отсутствие четких границ между указанными точками зрения, пересекающимися в промежуточных высказываниях: сторонники российского народа рассуждают о роли разнообразных региональных, этнических, религиозных и других различий в современной России, а противники — об объективных интеграционных процессах. В связи с этим можно согласиться с диалектической формулой, предложенной одним из информантов: «У представителей разных этносов, религий есть и сплоченность, и разрозненность. Есть много факторов, которые на это влияют» (ФГ № 1, м., 23 года, русский).
Факторы, укрепляющие общероссийскую национально-гражданскую идентичность. Характерная черта сторонников существования единой российской нации — признание этнических, религиозных, региональных и других различий между соотечественниками несущественными, преодолимыми: «Национальность, религия — не важно, главное — отношение людей друг к другу» (ФГ № 2, м., 20 лет, татарин). Даже резонансные случаи девиантного поведения в Москве выходцев с Северного Кавказа приверженцы этой точки зрения оценивают как естественные «особенности людей, живущих в разных районах одного города» (ФГ № 3, м., 31 год, татарин).
Основным фактором, нейтрализующим все различия, считается российский менталитет, общий для жителей всех регионов, не противоречащий этнической и религиозной самобытности россиян: «У нас общий менталитет» (ФГ № 2, ж., 25 лет, русская), «Пусть верим в разное, но все мы одинаковые» (№ 2, Анастасия, 27 лет, русская). Один информант высказал идею о существовании как самобытных, так и общих правил, которые соблюдают все россияне независимо от этнической и религиозной принадлежности.
Подчеркивается роль русского народа и русского языка в создании единого социального пространства. «Человек мыслит русским языком — это сплачивает» (ФГ № 1, м., 27 лет, татарин). «Национальности разные, но все мы говорим на русском языке, это всех нас сближает» (ФГ № 2, м., 35 лет, мордовка). Русским является и слово для обозначения граждан страны независимо от их этнической и религиозной принадлежности: «Россияне — это правильное слово и его надо держаться» (ФГ № 2, м., 64 года, русский).
Мощным объединяющим началом являются российское государство, его территория, законы и история. «Президент один, власть одна, ответственность за страну у нас тоже одна» (ФГ № 3, м., 24 года, русский). «Объединяет то, что я живу на территории Российской Федерации» (ФГ № 2, м., 20 лет, татарин). Подчеркивается интегриру- ющая функция единого морального и правового пространства — «общая мораль и законы, представления о том, “что можно, что нельзя”» (ФГ № 1, м., 27 лет, татарин).
Идея значимости российской конституции и законодательства, общей истории как факторов единства регионов, этносов и конфессий доминировала во всех фокус-группах. По мнению участников дискуссий, именно длительное сосуществование в одном обществе позволило выработать культурные образцы гармоничного межэтнического, межрелигиозного и межрегионального взаимодействия: «Мы живем на одной территории, в одном государстве, у нас есть свои традиции, доставшиеся от родителей, которые мы стараемся продолжать — это нас сплачивает» (ФГ № 1, м., 23 года, русский); «Мы же дружили всю жизнь: вера христианская, вера мусульманская» (ФГ № 2, ж., 58 лет, татарка). Более того, культурное многообразие регионов оценивается как фактор, способствующий взаимопониманию и на всероссийском уровне: «Мы знаем культуру жителей соседних регионов, поэтому легко общаемся с представителями других областей и республик России» (ФГ № 2, ж., 27 лет, русская).
Среди культурных образцов взаимодействия чаще всего упоминались праздники. Одинаково значимыми для всех этносов и конфессий остаются Новый год и День Победы: «Все мы радовались салюту в детстве, ждали Нового года, как чего-то невероятного» (ФГ № 3, м., татарин); «На 9 Мая все ходят на парад. Помните “Бессмертный полк”? Нас объединяет именно это» (ФГ № 1, ж., 27 лет, мордовка). Общими названы также религиозные и этнические праздники, которые, на первый взгляд, должны были бы разъединять людей (христианская Пасха, мусульманский Сабантуй). «Перенимаются какие-то обычаи. Взять праздник Пасхи, когда дети ходят по квартирам — и мусульмане, и православные. Кто-то им конфеты раздает [мусульмане], а кто-то — крашеные яйца [христиане]» (ФГ № 1, ж., 27 лет, мордовка). «Сабантуй — не только национальный, но и объединяющий праздник. К нам приезжают из многих регионов России» (ФГ № 2, м., 64 года, русский). Представителям средних и старших возрастных групп близка идея преемственности российского и постсоветского социальных пространств.
Интегрирующая роль общих компонентов социализации личности реализуется через семью, школу, повседневную жизнь и труд.
Объединяющие функции семьи проявляются в двух направлениях: семья как ячейка общества: «Россия для меня — это прежде всего семья. Люди, которые близки мне, они меня объединяют со всеми» (ФГ № 1, м., 27 лет, татарин); смешанные браки между представителями разных этносов: «В семьях уже переплелись все этносы, тут уже кровь наша не понятно чья» (ФГ № 2, м., 64 года, русский).
Школьный этап социализации, по мнению информантов, формирует общее мировосприятие через одинаковые предметы и учебники. В широком смысле всех объединяет детство: «Разные дети в разных городах играли на улице в футбол, проводили примерно одинаково свое свободное время» (ФГ № 3, м., 31 год, татарин).
Единая в своей основе социализация приводит к формированию общих черт ментальности и культуры: «Кто бы из нас ни поехал за границу, мордвин или татарин — его все равно будут считать русским. Вот это нас и объединяет» (ФГ № 2, ж., 25 лет, русская).
Сплачивают повседневная жизнь, труд: «бытие наше со всеми особенностями» (ФГ № 2, ж., 58 лет, татарка); «трудовая деятельность, общие интересы» (ФГ № 1, ж., 34 года, мордовка); «стремление сделать свою жизнь лучше» (ФГ № 1, ж., 27 лет, мордовка).
Общей считается любовь к России, выражающаяся в уважении друг к другу, искренней привязанности к родине. «Большинство людей, живущих в России, уважают друг друга и любят» (ФГ № 1, ж., 21 год, мордовка). «Я верю, что россияне, проживающие даже на самых далеких от нас территориях, тоже любят нашу страну, и это хорошо» (ФГ № 3, ж., 20 лет, русская).
Важным фактором российского самосознания названы одинаковые проблемы: «Во всех регионах одни и те же проблемы. Одна страна — одна проблема» (ФГ № 1, ж.); «Если уж дефолт, то во всей стране, а не в отдельных регионах» (ФГ № 3, ж., 25 лет, русская). По словам информантов, скрепляют российский социум повсеместно встречающиеся низкий уровень и качество жизни, несправедливость распределения социальных благ, непопулярные реформы, экологические проблемы, некачественные продукты питания и др. При этом участники дискуссии подчеркивали интегрирующие функции взаимопомощи: «Помогаем мы друг другу в любых ситуациях, независимо от того, татарин, мордвин, армянин, русский — сплачиваемся и оказываем помощь» (ФГ № 2, м., 64 года, русский).
Внутреннее единство стимулируют отношения с внешним миром, общие победы на международной арене и угрозы извне: «Спортсмены, которые выступают от Дагестана, от Чечни, — все они представляют Россию» (ФГ № 2, м., 20 лет, татарин). «Сплачивает нас убежденность в том, что есть мы и есть кто-то, кто нам хочет сделать большую печаль: в XX в. это была Германия, потом — Америка, сейчас Европа со своими санкциями» (ФГ № 1, м., 26 лет, русский); «Если понадобится, и мусульманин, и русский, и мордвин — все они встанут за свое Отечество, как это было всегда» (ФГ № 2, ж., 27 лет, русская). Подчеркивалась объединяющая роль террористической угрозы: «терроризм оставил большой отпечаток» (ФГ № 2, м., 20 лет, татарин).
Факторы, препятствующие развитию общероссийской национально-гражданской идентичности. Часть информантов убеждена: несмотря на государственную политику, единая общность под названием «российский народ» не сложилась, побеждают центробежные силы, подталкивающие жителей страны к конфликтам.
Характерной чертой приверженцев указанного мнения является негативное восприятие социокультурных различий между россиянами. Если сторонники единого российского народа интерпретируют этническое, религиозное и региональное многообразие как данность и даже преимущество России, то противники относятся к культурной дифференциации с раздражением: «Христианство и ислам никогда не будут дружны, и это все миф, что можно всех подружить и всех объединить» (ФГ № 1, ж., 34 года, мордовка). Понятие «единый народ» они трактуют как синоним полной культурной однородности социума, поэтому цель государственной политики идентичности интерпретируется ими как максимальное преодоление любых социокультурных различий. В этом контексте нарушением целостности российского общества считаются не только этнические и религиозные различия, но и региональные особенности: «Свои какие-то республики самобытные, свои области, где своя культура, своя национальность; свои населенные пункты, где живут по каким-то своим правилам» (ФГ № 3, ж., 25 лет, русская).
Вместе с тем многие важные факторы, дезинтегрирующие российское общество, по мнению информантов, совершенно не связаны с культурным многообразием страны. О них рассуждали как сторонники, так и противники существования единого российского народа. Одной из главных проблем, раскалывающих российское общество, назван несправедливый уровень социального неравенства: «Один тратит четверть миллиона евро в кафе за границей, а другому не хватает денег для оплаты ипотечного кредита» (ФГ № 1, м., 27 лет, татарин). Информанты обеспокоены «увеличением пропасти между очень богатыми и малоимущими людьми» (ФГ № 1, ж., 34 года, мордовка). Подчеркивается тенденция накопления потенциального недовольства и нарастания рисков дезинтеграции: «На данном этапе российский народ един в силу того, что время, отпущенное на создание двух наций (расу рабов и расу господ), еще не прошло» (ФГ № 1, м., 42 года, русский).
Угрозой считается углубление региональной дифференциации: «Объединяют примерно одинаковые условия жизни в городах. Но между разными городами и регионами объединяющего фактора нет» (ФГ № 3, м., 26 лет, русский); «У каждого региона своя средняя заработная плата и прожиточный минимум, цены на продукты у всех разные» (ФГ № 1, м., 23 года, русский). Обособленными названы некоторые приграничные территории, жители которых скорее ориентированы на соседние страны. В качестве иллюстрации упоминались Республика Карелия, Мурманская, Псковская и Калининградская области («эстонские паспорта», «бесплатные визы»), а также Дальний Восток (в связи с переездами россиян на постоянное место жительства в Китай).
Опасны различия между поколениями в понимании некоторых политических дискурсов. У представителей старших возрастных групп жива память о советском народе, единство и сплоченность которого не спасли СССР от распада. Такой исторический опыт способствует осторожному отношению к высказываниям на эту тему: «Но Советский Союз развалился. Я думаю, мы все принадлежим к одному народу, независимо от национальности, вероисповедания. Хотя понятно, что были разные времена» (ФГ № 2, м., 64 года, русский). Однако для участника дискуссии, родившегося в 1990 г., понятия «СССР», «дружба народов», «славянское братство» совершенно непонятны, он не считает белорусов, украинцев и русских единым народом. В целом память о советском прошлом вызывает у информантов скорее ощущение хрупкости сегодняшнего относительного единства: «Мы раньше с украинцами существовали единым народом, а теперь общаемся не очень хорошо» (ФГ № 1, м., 27 лет, татарин).
Обсуждение и заключения. В целом исследование подтвердило существование в обыденном сознании жителей Республики Мордовия представлений об иерархии коллективных идентичностей с общероссийским национально-гражданским самосознанием во главе; позволило охарактеризовать идеи, укрепляющие и ослабляющие общероссийскую национальногражданскую идентичность, требующие учета при формировании соответствующей государственной политики.
В интерпретации участников фокус-групп укрепление общероссийской национально-гражданской идентичности стимулируют следующие факторы:
— восприятие культурного многообразия российской гражданской нации как ее естественного состояния (преимущества);
— убежденность в отсутствии противоречий между общероссийской национально-гражданской идентичностью и этническим, религиозным, региональным самосознанием, идея общей ментальности;
— признание объединяющей роли русского народа, русского языка и русской культуры в конструировании российской гражданской нации;
— отношение к государству как гаранту единого исторического, правового, культурного социализирующего пространства для взаимодействия этносов, конфессий, региональных социумов;
— одинаковое понимание внутренних проблем и внешних угроз, любовь к «большой Родине» и готовность ее защищать.
Анализ дискуссий позволяет определить факторы, препятствующие развитию общероссийской национально-гражданской идентичности.
Во-первых, неприятие частью общества социокультурной неоднородности России, этническая и религиозная нетерпимость. В групповых дискуссиях они проявились в мягкой форме — в виде переживаемого некоторыми информантами дискомфорта от присутствия рядом иных этнических и религиозных культур, традиций. Последние всероссийские социологические исследования показывают некоторое снижение степени распространенности этнической и религиозной нетерпимости в стране7, однако региональные особенности этой проблемы требуют постоянного внимания.
Во-вторых, разрушительным потенциалом обладают социальные неравенства, раскалывающие российское общество. По сравнению с суждениями о других проблемах высказывания на эту тему окрашены более интенсивными отрицательными эмоциями («раса рабов и раса господ», «пропасть» и т. п.). Исследование позволяет говорить о негативном влиянии на гражданское самосознание россиян не только экономического расслоения в целом, но и существенных региональных различий в уровне и качестве жизни. Субъективные оценки информантов соответствуют объективным данным. Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства, в 2016 г. разрыв между самыми богатыми и самыми бедными регионами России по относительному уровню собственных доходов достигал 6,8 раза8.
В-третьих, заслуживают научного анализа особенности гражданского самосознания разных поколений россиян: линия разделения проходит по неодинаковому историческому опыту и содержанию социализации личности. Представления молодых людей, рожденных после распада Советского Союза, о российской гражданской нации могут существенно отличаться от мировоззрения старших возрастных групп, свидетелей разрушения советского социального пространства по этническим и региональным границам.
Список литературы Факторы общероссийской национально-гражданской идентичности в интерпретации жителей полиэтнического региона
- Blum D.W. National Identity and Globalization: Youth, State, and Society in Post-Soviet Eurasia. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. 225 p. DOI: 10.1017/CBO9780511490873
- Risse T. A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, NY and London: Cornell University Press, 2010. 287 p.
- Jacobs D., Mayer R. European Identity: Construct, Fact and Fiction // Gastelaars M. & de Ruijter, A. (eds.) A United Europe. The Quest for aMul tifaceted Identity. Maastricht: Shaker, 1998. Pp. 13-34. URL: http://citeseerx. ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.524.3597&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 24.04.2017).
- Гранин Ю.Д. К проблеме реальности в современной социологии: исчезновение группы? // Высшее образование в России. 2014. № 2. С. 126-130.
- Klein M. Die Nationale Identitat der Deutschen: Commitment, Grenzkonstruktionen und Werte zu Beginn des 21 Jahrhunderts. Wiesbaden: Springer VS, 2014. 367 p.