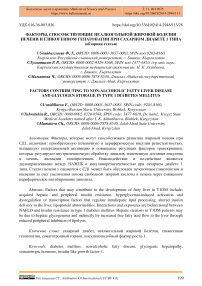Факторы, способствующие неалкогольной жировой болезни печени и гликогенном гепатопатии при сахарном диабете 1 типа (обзор)
Автор: Увайдиллаева Ф.Т., Тухватшин Р.Р., Маматова Ч.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Медицинские науки
Статья в выпуске: 4 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Факторы, которые могут способствовать развитию жировой печени при СД1, включают: приобретенную печеночную и периферическую инсулин резистентностью, вызванную гипергликемией активацию и повышение регуляции факторов транскрипции, которые регулируют внутрипеченочную обработку липидов, измененную доставки инсулина в печень, аномалии липопротеинов. Взаимодействие и воздействие являются двунаправленными между НАЖПБ и инсулинорезистентностью при сахарном диабете 1 типа. Стеатоз печени у пациентов с СД1 может быть обусловлен печеночным гликогенозом и косвенно за счет увеличения потока свободной жирной кислоты в печень через сниженное периферическое ингибирование липолиза.
Сахарный диабет, неалкогольной жировой болезни, гликогенная гепатопатия, соматотропный гормон, инсулиноподобный фактор роста-1
Короткий адрес: https://sciup.org/14132584
IDR: 14132584 | УДК: 616-36-003.826 | DOI: 10.33619/2414-2948/113/28
Текст обзорной статьи Факторы, способствующие неалкогольной жировой болезни печени и гликогенном гепатопатии при сахарном диабете 1 типа (обзор)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 616-36-003.826
Известно накопление жира и гликогена в печени у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) [1, 2]. Однако, в отличие от внимания, уделяемого неалкогольной жировой болезни печени при диабете 2 типа [3, 4], этиология, распространенность и последствия стеатоза печени при диабете 1 типа остаются плохо изученными. Отсутствие исследовании в этой области может быть связано с большей распространенностью диабета 2 типа по сравнению с диабетом 1 типа и связью диабета 2 типа с ожирением, которое является общепризнанным фактором риска жировой болезни печени [5].
Обзорная статья организована следующим образом: в первом разделе рассматриваются механизмы избыточного накопления гликогена в печени при диабете 1 типа. Во второй части анализируется клинические данные гликогенной гепатопатии. В третьем разделе рассматриваются эффекты дефицита инсулина и гипергликемии на гепатоциты, способствующие НАЖБП при диабете 1 типа. В четвертой части приводятся данные о распространенности стеатоза печени и среди пациентов с диабетом 1 типа и пути изменений номенклатуры НАЖПБ. В пятом разделе обсуждается связь инсулин подобного фактора роста-1 (ИФР-1) с СД1 типа и НАЖПБ. Наконец, обсуждаются некоторые из возможных клинических направлений дальнейших исследований НАЖБП при диабете 1 типа.
Глюкоза представляет собой основной источник энергии для большинства тканей организма, поэтому, поддержание ее гомеостаза является результатом сложной регуляторной системы, включающей различные ткани. Межорганное перекрестное взаимодействие посредством разнообразных циркулирующих факторов, таких как инсулин и нейропептиды, обеспечивает распределение питательных компонентов в соответствии с потребностью конкретного органа [6]. В настоящее время показано, что семьдесят пять процентов кровотока содержащий весь инсулин, секретируемый β-клетками поджелудочной железы, поступает через воротную вену печень. Несмотря на общеизвестный факт, что сахарный диабет 1 типа — это нарушение метаболизма глюкозы, которое возникает из-за абсолютного дефицита инсулина, в результате аутоиммунного разрушения β-клеток, секретирующих инсулин, при этом поступление инсулина в печень из воротной вены отсутствует. Надо отметить, что данных о регуляции печеночного кровотока при диабете 1 типа недостаточно и это заслуживает дополнительного изучения [5].
Инсулин снижает печеночный глюконеогенез, подавляя экспрессию генов ключевых глюконеогенных ферментов фосфоенолпируваткарбоксикиназы и глюкозо-6-фосфатазы. Кроме того, инсулин стимулирует синтез гликогена в печени, активируя гликогенсинтетазу. Как только печень насыщается гликогеном, любая дополнительная порция глюкозы, поглощаемая гепатоцитами, перемещается на пути, ведущие к синтезу жирных кислот, которые экспортируются из печени уже в виде липопротеинов [7]. Так же гипотеза и Roden M с соавторами подверждает, что аномальное преобразование углеводов вызывает накопление жира в печени. Гепатоциты поглощают глюкозу независимо от инсулина с помощью низкоаффинного, высокопроизводительного транспортера глюкозы GLUT2, который облегчает поступление глюкозы в присутствии высоких концентраций синусоидальной глюкозы. В гепатоцитах глюкоза быстро фосфорилируется до глюкозо-6-фосфата с помощью печеночной изоформы гексокиназы глюкокиназы. Из глюкозо-6-фосфата поток глюкозы преврашается в гликоген через уридиндифосфат (УДФ)-глюкозу (прямой путь синтеза гликогена), пентозофосфатный шунт или в гликолиз, давая такие молекулы, как пируват и лактат. Гликоген также может синтезироваться косвенным путем (3 углеродных единицы → фосфоенолпируват → глюкозо-6-фосфат → глюкозо-1-фосфат → УДФ-глюкоза → гликоген) [8].
Имеются многочисленные сообщения о случаях избыточного запаса гликогена у пациентов с диабетом 1 типа вызывая гликогенную гепатопатию [9-11].
Накопление гликогена начинается вблизи плазматической мембраны, на периферии гепатоцита. Затем отложения гликогена растут от периферии к внутренней части клетки. Благодаря такому способу отложения гликогена гепатоциты могут запасать большие количества гликогена. [9].
Утверждалось, что при накоплении гликогена в печени у пациентов с сахарным диабетом 1 типа с плохим гликемическим контролем обычно присутствуют два комбинированных события, способствующих отложению гликогена в печени: гипергликемия (на что указывает повышенный уровень глюкозы в крови и гликированного гемоглобина) и, как следствие, большое количество инсулина (на что указывает повышенная доза инсулина). При гипергликемии глюкоза пассивно поступает в гепатоциты с помощью инсулинонезависимого GLUT2 и быстро фосфорилируется, что приводит к ингибированию ее высвобождения из гепатоцитов. Глюкокиназа преобразует глюкозу в глюкозу-6-фосфат с последующим захватом в гепатоците. Затем повышенное введение инсулина способствует полимеризации глюкозу-6-фосфат в гликогене с помощью гликогенсинтазы, что приводит к большому количеству синтеза гликогена при высоких концентрациях цитоплазматической глюкозы [9].
Избыточный гликоген накапливается в гепатоцитах из-за инсулинонезависимого перехода глюкозы в гепатоциты в период гипергликемии с последующим инсулинопосредованным преобразованием в печеночный гликоген (требуются как повышенный уровень глюкозы, так и инсулина) [10].
Ингибирование чистого печеночного процесса гликогенолиза происходит при гипоинсулинемических и гипергликемических состояниях, в основном из-за снижения потока гликогенфосфорилазы [5] . У пациентов с диабетом 1 типа, проходивших интенсивное лечение, гипогликемия не стимулировала распад печеночного гликогена или активацию эндогенной продукции глюкозы, несмотря на процессы контррегуляции. Эти факторы могут способствовать дефектной гипогликемической контррегуляции, наблюдаемой у пациентов с диабетом 1 типа [11].
Клинические данные о гликогенной гепатопатии. Впервые были задокументированы как компонент синдрома Мориака в 1930 году [12], впоследствии было признано, что перегрузка печени гликогеном может происходить без связанных с ней признаков задержки роста, замедление полового созревания и развитием кушингоидных типов тел сложение. Ранее ее называли по-разному: гепатический /печеночный гликогеноз, накопление гликогена в печени или гепатомегалия, связанная с накоплением гликогена при СД, термин «гликогенная гепатопатия» был введен в 2006 году в первой статье, систематически описывающей гистологические данные, и в настоящее время получил широкое признание и использование [13].
Гликогенная гепатопатия обычно возникает у детей и взрослых с выраженной или длительной гипергликемией, за которой следует экзогенное введение инсулина в условиях СД 1 типа. У большинства пациентов наблюдается гепатомегалия и повышенные показатели сывороточных аминотрансфераз, которые нормализируется после гликемического контроля [14].
Исследование случай-контроль подтвердило, что у пациентов с гликогенной гепатопатией был недостаточный гликемический контроль, по сравнению с контрольной группой (дети с СД1 типа без гликогенной гепатопатии) о чем свидетельствует история повышения уровня гликрованного гемоглобина (HbA 1c). В данном же исследовании показана о задержка роста детей с гликогеной гепатопатией [15].
Ретроспективное исследование когорты детей младше 18 лет подтверждает о развитие гликогенной гепатопатии с высокими уровнями АЛТ и АСТ у детей с декомпенсированным сахарным диабетом с длительным течением [16].
Как было описано, повторные эпизоды кетоацидоза при диабете 1 типа значительно увеличивают риск перегрузки печени гликогеном, поскольку диабетический кетоацидоз (фатальное осложнение плохо контролируемого диабета) обычно лечат постоянными уровнями внутривенного инсулина (при высокой концентрации глюкозы в крови). Фактически, высокий процент случаев гликогенной гепатопатии, описанных в литературе, представлял собой диабетический кетоацидоз с частотой около 40% (14/35 случаев), что подтверждает связь постоянного лечения инсулином и развития гликогенной гепатопатии [9].
Эффекты дефицита инсулина и гипергликемии на гепатоциты способствущие НАЖБП при диабете 1 типа. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) охватывает спектр от относительно доброкачественного изолированного гепатостеатоза (ГС) до более опасных проблем неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), фиброза печени и цирроза. НАЖБП, по определению, может быть диагностирована только при отсутствии других причин заболевания печени [17].
Накопление жира в печени происходит, когда скорость печеночного липогенеза из-за повышенного поглощения свободных жирных кислот (СЖК) печенью и синтеза триглицеридов превышает скорость окисления триглицеридов или оттока в виде липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) [18]. Факторы, которые могут способствовать жировой болезни печени при СД1, включают: приобретенную печеночную и периферическую ИР [19], вызванную гипергликемией активацию и повышение регуляции факторов транскрипции, которые регулируют внутрипеченочную обработку липидов [18], измененную доставку инсулина в печень [20], аномалии липопротеинов [21].
Взаимодействие и воздействие являются двунаправленными между НАЖПБ и инсулинорезистентностью при сахарном диабете 1 типа. Стеатоз печени у пациентов с СД1 могут быть вызванным печеночным гликогенозом и косвенно за счет увеличения потока СЖК в печень через сниженное периферическое ингибирование липолиза [22]. Так же является противоположностью, что печеночная инсулинорезистентность будет способствовать гипергликемии из-за непрерывного глюконеогенеза, наряду с ингибированием липогенеза. Однако, как было указано ранее, несколько других механизмов могут привести к увеличению липогенеза в гепатоцитах [18].
Инсулинорезистентность часто наблюдается у больных диабетом 1 типа во время пубертатного развития и интеркуррентных заболеваний. Половое созревание связано с физиологическим нарушением чувствительности к инсулину, под влиянием с всплеска гормона роста и половых стероидов, особенно на поздних стадиях пубертатного развития. Инсулинорезистентность, связанная с половым созреванием, в основном влияет на периферическое использование глюкозы, с меньшим влиянием на жировой обмен. Плохой гликемический контроль у больных диабетом 1 типа обусловлен с печеночной резистентностью к инсулину [19].
Кроме того, было показано, что гипергликемия увеличивает как белки, связывающие регуляторные элементы стерола (SREBP), так и экспрессию GLUT2 в гепатоцитах. SREBP являются факторами транскрипции, которые активируют экспрессию множества генов, предназначенных для синтеза и поглощения холестерина, жирных кислот, триглицеридов и фосфолипидов. При наличии высоких уровней глюкозы и, независимо от инсулина SREBP, такие как стерол-регуляторный элемент-связывающий белок-1c (SREBP-1c), углеводчувствительный элемент-связывающий белок (ChREBP), повышают экспрессию множества липогенных генов. Следовательно, SREBP и ChREBP могут способствовать развитию жировой печени при СД1 [23].
При гипергликемии гепатоциты поглощают и/или производят больше глюкозы, чем может быть преобразовано в гликоген, эта дополнительная глюкоза перемещается по путям, ведущим к синтезу жирных кислот. Таким образом, как гипергликемия, так и гипоинсулинемия, которые могут характеризовать плохо контролируемый диабет 1 типа, могут потенцировать множественные пути, способствующие превращению сахара в жир и синтезу липидов [18].
При СД1 инсулин доставляется периферически посредством подкожного введения инсулина. Это существенно отличается от физиологической доставки инсулина непосредственно в портальный кровоток, где 50–80% инсулина впоследствии выводится печенью. Такое измененное воздействие концентраций инсулина на гепатоциты может значительно изменить скорость отложения внутрипеченочного жира. Ванлесс и др. показали, что у 90% пациентов получавшей инсулин внутрибрюшинно во время диализа развился стеатоз печени и ни у одного из пациентов не развился стеатоз печени в контрольной группе -это подчеркивает стеатогенную роль гиперинсулинемии [20].
У пациентов с диабетом 1 типа дефицит инсулина приводить к количественным нарушениям липидов. Увеличивается количество липопротеинов, богатых триглицеридами (хиломикроны, ЛПОНП), что приводит к гипертриглицеридемии. Эти нарушения липопротеинов могут способствовать накоплению жира в печени при СД1 [21].
Распространенность НАЖБП при сахарном диабете 1 типа. В одном метаанализе включающем 20 исследований, проведенных в период с 2009 по 2019 год с участием 3901 пациента, как детей, так и взрослых с СД1 показано, что общая распространенность НАЖБП у пациентов с диабетом 1 типа значительна и составляет 19,3%, а распространенность даже выше — 22% только у взрослых. Оценка распространенности сильно зависит от диагностической стратегии и используемого определения НАЖБП. Самый высокий уровень распространенности был выявлен при ультразвуковых исследованиях (27,1%, 95% ДИ: 18,7– 36,3%), более низкий в исследованиях с МРТ (8,6%, 95% ДИ: 2,1–18,6%) и самый низкий в двух исследованиях, объединяющих оценки риска с транзиторной эластографией (2,3%, 95% ДИ: 0,6–4,8%). Исследование биопсии показало распространенность 19,4% (95% ДИ: 10,0– 30,7%) у 57 человек с СД1 [17].
В 1980 г впервые ввели термин НАЖБП, который относится к развитию стеатоза без значительного потребления алкоголя, при этом разделяя многие гистопатологические признаки с алкоголь-ассоциированным заболеванием печени [24].
Системная и печеночная инсулинорезистентность (ИР) является важным компонентом патогенеза MASLD, который впервые был описан в 1999 г. Эта характеристика MASLD переоценивает отсутствие значительного потребления алкоголя, при этом недооценивая роль метаболических факторов риска [25].
В 2020 г международная консенсусная группа разработала новую номенклатуру жировой болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией (MAFLD), для решения этих проблем [26].
В 2023 г Американская ассоциация по изучению заболеваний печени и Европейская ассоциация по изучению печени одобрили новую номенклатуру SLD, основанную на утвердительном и нестигматизирующем подходе. Стеатоз печени (SLD) был выбран в качестве всеобъемлющего термина для охвата различных этиологий стеатоза [27].
Все вышеупомянутые попытки точно определить метаболическое заболевание печени указывают не только на клиническую значимость, но и на гетерогенность этого сложного метаболического заболевания.
ИФР-1 обладает множественными паракринными и эндокринными эффектами, не только стимуляции роста но и гипогликемическими эффектами на рецепторе инсулина и отрицательной обратной связью на уровне гипофиза для подавления секреции ГР [28].
Одной из основных метаболических функций ГР является его стимулирующее воздействие на печень, вырабатывая приблизительно 80% циркулирующего инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1). Дефицит гормона роста, который часто связан с центральным ожирением, потерей мышечной массы, снижением костной массы и ухудшением качества жизни, демонстрирует наличие прямого действия ГР в печени. Поскольку печень также считается основным источником циркулирующего ИФР-1, накапливающиеся данные указывают на то, что ИФР-1 напрямую нацелен на печень. Некоторые исследования показали, что уровни ГР и ИФР-1 снижены у пациентов с НАЖБП [29].
ГР и ИФР-1 являются важными регуляторами метаболизма глюкозы и липидов в печени, и все больше данных свидетельствуют о том, что снижение GH и IGF-1 увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени. Животные модели показывают, что как ГР, так и ИФР-1 обладают противовоспалительным и антифиброзным действием, тогда как сам ГР, по-видимому, имеет решающее значение для предотвращения накопления липидов в печени, в значительной степени за счет ингибирования липогенеза de novo. ГР и ИФР-1 оказывают разное воздействие на гликемию, причем ГР действует как контррегуляторный гормон, а ИФР-1 оказывает гипогликемическое действие, достигаемое за счет высокой степени гомологии между ИФР-1 и инсулином, а также рецептором инсулина и рецепторами ИФР. При НАЖБП гипогликемическое действие ИФР-1, вероятно, будет особенно значимым, поскольку чувствительность к ИФР-1 сохраняется, несмотря на резистентность печени к инсулину. Клинический опыт также подтверждает роль оси ГР/ИФР-1 в патогенезе НАЖБП, поскольку у пациентов с дефицитом GH наблюдается более высокая распространенность НАЖБП, а замена ГР улучшает характеристики НАЖБП. В общей популяции взрослые с более высоким уровнем сывороточного ИФР-1 имеют более низкий риск НАЖБП [28].
Основные метаболические эффекты ГР состоят в стимуляции липолиза в белой жировой ткани, что увеличивает циркулирующие уровни свободных жирных кислот и приводит к ингибированию окисления глюкозы и нарушению печеночной и периферической чувствительности к инсулину, это одним из путей развития инсулинорезмистености у детей с СД1. Нами, в ранее опубликованном оригинальном исследовании было показано, что повышение ГР и снижение ИФР-1 у детей с СД1 по сравнению с контрольной группе статистический значимо [30].
Так же в других исследованиях покзано,что низкий уровень циркулирующего IGF-1 может играть важную роль в развитии прогрессирующей НАЖБП, независимо от резистентности к инсулину. Добавки с ГР/ИФР-1 могут быть кандидатом для лечения НАЖБП [31].
ПетитЖ.М и другие исследовали 128 пациентов с диабетом 1 типа, 264 пациента с диабетом 2 типа и 67 участников без диабета. Стеатоз печени определялся с помощью магнитно-резонансной томографии. В контрольной группе у девяти человек (13,4%) был стеатоз по сравнению с шестью (4,7%) пациентами с диабетом 1 типа (P=0,04). Среди пациентов с диабетом 2 типа у 166 (62,8%) был стеатоз. В многомерном анализе, включавшем пациентов с диабетом 1 типа и участников без диабета, стеатоз был связан только с ИМТ, тогда как возраст, пол, терапия статинами и диабет 1 типа не были связаны. У пациентов с диабетом 1 типа не было никакой корреляции между содержанием жира в печени и расчетной скоростью клубочковой фильтрации или толщиной интима-медиа сонной артерии [32].
Kummer, S совметсно с соавторами изучили распространенность НАЖБП в когорте детей и подростков с СД 1 типа в педиатрическом диабетическом центре третичного уровня в Германии и не рекамендует систематического скрининга НАЖБП у детей с СД 1 типа, так как результаты не указывают на значительное увеличение распространенности НАЖБП в этой когорте [33].
Тогда как другое проспективно когортное исследование показало, распространенность НАЖБП составляет 16,2% и связан с метаболическим синдромом и индексом массы тела. Повышенная жесткость печени, указывающая на фиброз, в целом не распространена у людей с СД1 (3,8%), но достигает 13,2% у людей с СД1 и НАЖБП. Рекомендуется проводить скрининг людей с СД1 и сопутствующим метаболическим синдромом, желательно с помощью УЗИ, дальнейшей оценку может проводить эластометрии (для совместной оценки стеатоза и возможного фиброза) [34].
Исследование, проведенное в 2021 г, сравнило 30 пациентов с СД1 с 37 пациентами с СД2, чтобы оценить связь между энергетическим метаболизмом печени и НАЖБП, связанной с диабетом. Это исследование показало, что, как и ожидалось, у лиц с СД2 было более высокое содержание липидов в печени (38% при СД2 против 7% при СД1) и более высокая резистентность к инсулину, несмотря на аналогичный гликемический контроль. Последующее наблюдение через 5 лет показало, что содержание липидов в гепатоцеллюлярной ткани удвоилось у лиц с СД2 с увеличением висцеральной жировой ткани, увеличив распространенность НАЖБП до 70%. Это коррелировало с резистентностью к инсулину, а энергетический метаболизм печени, оцененный по концентрациям γАТФ и неорганического фосфата (Pi), был нарушен у обоих лиц, но значительно больше у лиц с СД2 (17% против 10% у лиц с СД1). В целом это исследование предполагает, что масса жировой ткани и митохондрии печени играют важную роль в развитии НАЖБП у пациентов с диабетом. Это может указывать на важную роль избыточной висцеральной жировой ткани в возникновении НАЖБП. Поскольку данных о распространенности НАЖПБ у лиц с СД1 недостаточно, необходимы дальнейшие исследования для конкретного решения этого вопроса [35].
Другие исследователи пришли к выводу, что золотым стандартом диагностики НАЖБП остается биопсия печени, поскольку НАЖБП трудно диагностировать без гистологического анализа, а традиционная визуализация часто недостаточна, но она дорогая и рискованная для проведения в большой популяции, и поскольку нет достаточно специфичных для НАЖБП биомаркеров крови [36].
В перечисленных работах с гликогенной гепатопатией не были исследованы гормональные показатели для подтверждения о задержке роста, так как заболеваемость ГГ значительно снизилась с появлением инсулина длительного действия и из-за растущего признания и осведомленности о контроле гликемии пациентами с диабетом. Истинная заболеваемость и распространенность ГГ неизвестны. Одной из причин этого является сложность его дифференциальной диагностики с НАЖБП, что часто приводит к неправильной диагностике. Следует подробное изучить распространенность, связь ГР/ИФР-1 и НАЖПБ у детей с СД1.