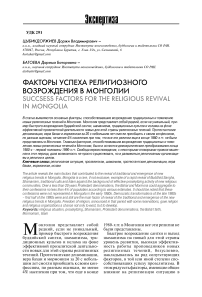Факторы успеха религиозного возрождения в Монголии
Автор: Цыбикдоржиев Доржи Владимирович, Батоева Дарима Баторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются основные факторы, способствовавшие возрождению традиционных и появлению новых религиозных течений в Монголии. Монголия представляет собой редкий, если не уникальный, пример быстрого возрождения буддийской сангхи, шаманизма, традиционных культов и ислама на фоне эффективной прозелитской деятельности новых для этой страны религиозных течений. Протестантские деноминации, вера бахаи и мормонизм за 20 с небольшим лет смогли приобщить к своим конфессиям, по разным оценкам, не менее 4% населения при том, что все эти религии еще в конце 1980-х гг. не были представлены в Монголии. Главным фактором, способствовавшим возрождению традиционных и появлению новых религиозных течений в Монголии, были и остаются демократические преобразования конца 1980-х - первой половины 1990-х гг. Свобода вероисповедания, с некоторыми оговорками провозглашенная в этот период, дала возможность не просто существовать, но и развиваться религии и религиозным организациям в целом.
Религиозная ситуация, прозелитизм, шаманизм, протестантские деноминации, вера бахаи, мормонизм, ислам
Короткий адрес: https://sciup.org/170167472
IDR: 170167472
Текст научной статьи Факторы успеха религиозного возрождения в Монголии
М онголия представляет собой редкий, если не уникальный, пример быстрого возрождения буддийской сангхи, шаманизма, традиционных культов и ислама на фоне эффективной прозелитской деятельности новых для этой страны религиозных течений. Протестантские деноминации, вера бахаи и мормонизм за 20 с небольшим лет смогли приобщить к своим конфессиям, по разным оценкам, не менее 4% населения при том, что еще в конце
1980-х гг. в Монголии все эти религии не были представлены.
Быстрое возрождение сангхи и выход шаманизма на новый для этой страны уровень развития, высокая эффективность работы проповедников новых религиозных течений, безусловно, накладывались на ряд сопутствующих факторов, в той или иной степени способствовавших успеху прозелитизма. В этом ряду есть факторы, имеющие общее влияние на религиозную ситуацию в стране, факторы, прямо или косвенно влияющие на деятельность отдельных течений, а также факторы, влияющие на положение монгольского буддизма – основного конкурента новых религиозных организаций.
Демократические преобразования
Главным фактором, способствовавшим возрождению традиционных и появлению новых религиозных течений в Монголии, были и остаются демократические преобразования конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. Свобода вероисповедания, с некоторыми оговорками провозглашенная в этот период, дала возможность не просто существовать, но и развиваться религиозным организациям и религии в целом. Не менее важным моментом стало провозглашение и реальное обеспечение свободы слова, что привело к деятельному участию СМИ в процессе возрождения религиозности населения.
При этом в монгольском опыте имелись существенные отличия от опыта использования СМИ религиозными организациями на территории Российской Федерации. Если в России в начале 1990-х гг. печать, радио и телевидение активно привлекались даже для прямой пропаганды, то в Монголии масштабы этого явления были во много раз меньшими. Для Монголии было характерно использование в целях проповеди только специализированных СМИ. Впоследствии в стране появился собственный христианский телевизионный канал. Информационное освещение традиционных для Монголии буддизма, добуддийских верований и отчасти ислама, занявшее заметное место в массмедиа, было связано, помимо других причин, с процессом роста интереса населения к родной истории и культуре.
Этнокультурное возрождение
Отчетливо обозначившееся в конце 1980-х гг. общее стремление этнических групп Монголии к возрождению элементов традиционной духовной культуры неизбежно приводило к усилению интереса к религиозным течениям, которые в этих группах считались традиционными. Так, в среде монгольских казахов и хотонов, а также немногочисленных узбеков (чантуу) и уйгуров началось масштабное движение за возрождение ислама. Казахи, будучи крупнейшим этническим меньшинством в стране, на протяжении всего коммунистического правления сохраняли этническую самоидентификацию, в которой важную роль играло осознание своей общности как части исламского мира или, во всяком случае, осознание резкого отличия своей духовной культуры от культуры основного населения страны.
Что касается небольшой народности хотонов, сформировавшейся из переселенных в XVII–XVIII вв. ойрат-скими завоевателями пленных жителей Восточного Туркестана (Хотана), то возврат к исламу был для них не единственно возможным вариантом религиозности. К концу XIX в. хотоны не имели настоящих мулл, служители культа не знали арабского языка, и обыденная обрядность у них представляла собой любопытный синкретизм исламских, буддийских и шаманских элементов. Однако на исходе XX в. хотоны массово начали возвращаться в лоно суннитского ислама при активной поддержке казахов и проповедников из мусульманского зарубежья.
Значительным своеобразием отличается возрождение в Монголии шама-нистских практик. К концу 1980-х собственно шаманизм, т.е. вера в способность особых (избранных) лиц – шаманов – в состоянии транса совершать «путешествие» в сверхъестественные миры и общаться со сверхъестественными существами и соответствующий культ, был ограниченно распространен только у этносов северной периферии: дархатов, цаатанов, а также в бурятской и тувинской общинах. Остальное же монгольское население эпизодически или относительно регулярно исполняло ряд обрядов языческого культа, но при этом не имело «посвященных» шаманов. Халха-монголы, или халхасцы, основной этнос страны, сохраняли некоторые представления о шаманизме в основном в районах смешанного населения, где они соседствовали с дархатами, бурятами и другими северными народами.
С началом процессов этнокультурного возрождения традиционный для халхасцев комплекс традиционных верований стал восприниматься как шаманизм, чему в какой-то степени, видимо, способствовала терминологическая путаница. Укоренившееся обозначение всего комплекса добуддийских верований как шаманизма (монг. – боо мургэл), или «черной веры» (монг. – хар шашин), повлияло на представление о том, что для исполнения большинства обрядов непременно требуется шаман. В 1980-х гг. в абсолютном большинстве случаев халхасцы обращались к бурятским шаманам из северных аймаков Монголии. Те же шаманы стали учителями и для бурятских шаманов из сопредельных регионов России. Сегодня насчитываются сотни людей, называющих себя шаманами, существует целый ряд религиозных организаций, их объединяющих, причем буряты, дархаты и представители других северных этносов уже не составляют большинство в общем числе верующих, прибегающих к шаманским обрядам регулярно или эпизодически. Новейшая история шаманизма в Монголии (и в сопредельной Бурятии) являет собой удивительный пример успешной деятельности, которую (с некоторыми оговорками) можно назвать прозелитской.
Государственная поддержка
В начальный период демократических преобразований в законодательстве Монголии было признано особое значение буддизма, отраженное в законе об отношениях государства и церкви (1993 г.). Статья закона, в которой говорится об «уважении к статусу» буддизма как наиболее распространенной в стране религии, внесшей значительный вклад в развитие монгольской цивилизации и единства монгольского народа, нередко подвергается критике со стороны отдельных представителей христианских конфессий. В Интернете и средствах массовой информации за рубежом эта статья иногда рассматривается как «призванная обеспечить государственный контроль за господствующим положением буддийской религии» [Романова 2005]. Со своей стороны мы не можем отрицать того, что формулировка статьи действительно оставляет государству довольно широкое пространство для маневра, но вряд ли она может интерпретироваться как однозначно призванная обеспечить на госу- дарственном уровне господствующее положение буддизма.
Общим местом в публикациях в СМИ и Интернете стало истолкование указов президента Монголии о государственном почитании ряда гор и таких культовых объектов, как овоо (данная традиция связана с культами гор, предков, военных предводителей и хозяев местностей), как проявление протекционизма в отношении шаманизма. Между тем, на наш взгляд, эти указы меньше всего нацелены на поддержку шаманов.
Дело в том, что обряды почитания духов гор и Тэнгри (Неба) исторически проводились без участия шаманов. Последние если и присутствовали на обрядах, то в качестве рядовых участников, и не более того. Эти обряды проходили при большом скоплении народа (как правило, всего окрестного населения) и проводились представителями государственной власти или старейшинами, позднее – буддийскими монахами, ламами. Для сравнения напомним, что в Бурятии с конца 1990-х гг. намечалась тенденция отдавать руководство этими обрядами современным шаманам, что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Массовые обряды проводятся на лоне природы с употреблением спиртного, без контроля со стороны государства и местного самоуправления. В Монголии же в дополнении (от 05.09.2012) к указу Президента (от 07.07.2009) « Т рийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийг тайх тахилгын еслолын журам » приводится подробный перечень действий, сопутствующих самому религиозному ритуалу. В частности, предусматривается проведение конференций с участием ученых, культурнообразовательные мероприятия для детей и подростков, природоохранные мероприятия (специально оговаривается необходимость очистки территории), запрещается употребление спиртных напитков, произнесение бранных слов и т.д. Участие государства и местных органов подробно регламентируется вплоть до порядка делегирования представителей от различных ветвей власти, указывается компетенция аймачного руководства в части обеспечения размещения, питания, транспорта и безопасности участников церемонии.
В дополнении к указу президента пере- числяются также старейшины, ламы и хувараки, что, на наш взгляд, имеет немалый, хотя и не сразу понятный для иностранца смысл. Помимо представителей государства именно уважаемые старики и ламы исторически были главными лицами общественных молений. Шаманы (монг. – бэе) прямо не упоминаются, что вряд ли случайно. Культы наиболее значительных гор и овоо, в отличие от шаманизма, в современной Монголии, можно сказать, не имеют религиозной организации. Государство само стремится занять место исполнителя культа, поэтому в серии соответствующих указов и дополнений к ним оно поддерживает скорее само себя, а не какую-то конфессию. Другое дело, что это внимание, проявляемое государством к объектам традиционных культов, опосредованно работает на укрепление общего религиозного консерватизма и традиционализма монгольского народа.
Зарубежная поддержка
Влияние зарубежных религиозных центров и организаций на религиозную жизнь в Монголии можно оценить как огромное, хотя и неравномерное относительно отдельных конфессий. Такие течения, как протестантизм, мормонизм, вера бахаи и ряд других, без непосредственного импульса из-за рубежа в Монголии просто не появились бы до конца 1990-х гг., т.е. до массового распространения средств соединения с Интернетом. В реальности уже в 1990– 1991 гг. в Монголии образовались первые общины этих течений. На всем протяжении своей деятельности они поддерживаются из зарубежных центров, прежде всего через командирование в Монголию миссионеров, а также – как убеждены многие монгольские буддисты – через прямое финансирование.
К 2008 г. христианские конфессии в Монголии имели 161 место отправления культа, тогда как буддийские – 239 [Михалев 2013:211]. По данным монгольской статистики в 2010 г. в Улан-Баторе насчитывалось 115 христианских церквей, 62 буддийских храма, 1 бахаистский храм, 2 мечети и 10 шама нских центров 1 . К 2011 г.
христианские конфессии, по данным Государственного департамента США и неправительственной организации «Евангелический союз», обгоняли буддизм по числу молельных мест.
Совершенно очевидна и мощная зарубежная поддержка ислама. С 1993 г. в населенном преимущественно казахами аймаке Баян-Ульгий действует медресе, в котором преподают турецкие преподаватели. К настоящему времени в стране действуют более 40 мечетей. Мусульманские общины Монголии периодически получают методическую, а по некоторым данным – и финансовую помощь от исламских организаций Турции, Пакистана, ОАЭ и Исламского банка реконструкции и развития [Михалев 2013: 214-215].
В последние годы в Монголии начал проявляться совершенно новый фактор прироста численности мусульман, на сей раз шиитов. По инициативе ряда общественных деятелей в Монголию зачастили представители афганского народа хазара (хазарейцы), имеющего монгольское происхождение и до сих пор использующего некоторые элементы монгольского языка. В данное время в Монголии небольшое число хазарейских студентов обучаются по специальной программе при финансовой поддержке общественных организаций и государства. В будущем ожидается более массовая репатриация хазара в Монголию. Идея поддержки возвращения хазара в Монголию пользуется популярностью среди некоторых общественных деятелей и публицистов.
Определенное влияние из-за рубежа испытывают и монгольские буддисты. Тот факт, что признанным духовным лидером буддистов Центральной Азии является далай-лама, живущий в Индии глава Тибета в изгнании, сам по себе способствует ориентации на тибетскую духовную метрополию. Авторитет далай-ламы стабильно высок, в ауре его популярности находится не только старшее поколение, но и монгольская молодежь. В финансовом же плане структуры, сформированные вокруг института далай-ламы, не могут оказывать воздействия на Монголию, равновеликого воздействию со стороны протестантских конфессий. Тем не менее отрицать влияние условного тибетского религиозного центра не приходится.
Работа выполнена при поддержке РГНФ и МинОКН Монголии, грант № 12-21-03000а/Mon «Новые религиозные движения и традиционные религии в глобализирующемся мире: российско-монгольское трансграничье»