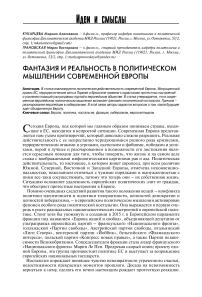Фантазия и реальность в политическом мышлении современной Европы
Автор: Кукарцева Марина Алексеевна, Грановская Мария Викторовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется политическая действительность современной Европы. Миграционный кризис ЕС, террористические акты в Париже и Брюсселе привели к нарастанию протестных настроений и усилению позиций ультраправых партий в европейском обществе. В статье утверждается, что в современном европейском политическом мышлении возникает феномен политической ностальгии. Причина - разочарование европейцев в либерализме. В этой связи авторы задаются вопросом о том, какое будущее ждет объединенную Европу.
Европа, политика, ностальгия, фракция, либерализм, евроскептицизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170168465
IDR: 170168465
Текст научной статьи Фантазия и реальность в политическом мышлении современной Европы
С егодня Европа, под которой мы главным образом понимаем страны, входящие в ЕС, находится в непростой ситуации. Современная Европа представляется нам узлом противоречий, который довольно сложно разрешить. Реальная действительность с ее непрестанно чередующимися разного рода кризисами, террористическим атаками и угрозами, скепсисом и фобиями, победами и успехами, верой в лучшее и разочарованием в возможности его достижения является серьезным поводом для того, чтобы поверить, что жизнь и на самом деле схожа с воображаемыми мифологическими картинами рая и ада. Политическая действительность, то настоящее, в котором живет европеец, при всем различии Южной, Северной, Восточной и Западной Европы, отмечена неконвенцио-нальностью, нежеланием считаться с чужими порядками и вынужденностью с ними все-таки сосуществовать, потому что теперь они – их собственная жизнь. Ситуацию осложняет удаленность европейских политических элит от граждан, что обостряет протестные настроения в Европе.
Помимо очевидных следствий развития такого положения вещей – конфликта политики идентичности и политики толерантности, ценностей демократии и ценностей либерализма, – в европейском политическом мышлении активирован феномен особого рода политической ностальгии. Она выражается в первую очередь в росте радикальных националистических настроений в европейской политике. Стоит хотя бы упомянуть о создании в 2015 г. в Европейском парламенте фракции под названием «Европа наций и свобод», объединяющей депутатов от ультраправых европейских партий – французского «Национального фронта», голландской «Партии свободы», Австрийской партии свободы, итальянской «Лиги Севера», венгерской партии «Йоббик», бельгийского «Фламандского интереса», польской партии «Конгресс новых правых», а также Партии независимости Великобритании. Сопредседателем фракции стала лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Предрекая скорый конец проекту единой Европы, эта группа противостоит политике ЕС и выступает за возрождение европейских национальных государств.
Ностальгия порождает щемящее чувство невозвратности утраченного счастья, недостижимости прекрасных моментов прошлого. Досада на невозможность вернуться к нему, сделать его вечно настоящим рождает протестную реакцию.
События прошлого приобретают странную независимость от настоящего и стремятся к воспроизведению в наличной данности – часто любой, самой страшной ценой. Происходит инверсия: прошлое становится своим, а настоящее – чужим, населенном враждебными человеку мирами и живущими в них фантастическими Чужими. В этом смысле мы согласны с З. Бауманом, считающим, что «современность начинает производить “людей без места”, которые не вписываются в сообщество и не ценят благополучно устроенную жизнь», например, мигранты – оторванные от места, живущие прошлым, желающие сделать его своим настоящим и превращающиеся оттого в «“ходячую дистопию”, несущую террор “в самую сердцевину” нашей жизни, напоминая, что и наше положение ненадежно»1. И тогда уже мы сами видим в настоящем опасность и стремимся вернуться в прошлое, где не было страха перед чужаками.
Политическая ностальгия порождает миф о благословенном прошлом Европы, не достигшей еще в своем развитии наивысшей точки – эпохи либерализма, где неконтролируемо множатся категории прав человека и число носителей этих прав, так что эти права становится просто невозможно соблюдать. Либеральная свобода предполагает, что люди могут абстрагироваться от своего происхождения, своего окружения, от традиций и от контекста, в котором они живут, т.е. «от всего того, что делает их теми, кем они на самом деле являются» [Бенуа 2009: 130].
В этой связи вопрос о конечной цели современной европейской политики становится особенно важным. Если эта цель – прогресс в достижении свободы, то она (цель) «дала серьезную трещину… Грядущее, которое становится все более непрогнозируемым, вызывает больше тревог, нежели надежд» [Бенуа 2009: 130]2.
Означает ли это, что эра прогрессивной либеральной Европы – « век Зевса», «время империй и полисов» с его политической лексикой, высокими представлениями о секулярной культуре и «новой нормальности» – подходит к концу? И является ли этот конец симптомом и результатом политической ностальгии, желанием вернуться назад, в прошлое, к веку Кроноса – «золотому веку» Европы наций? Может быть, Европа нуждается в новых лидерах и, отдавая свои голоса ультраправым кандидатам, начинает формулировать запрос на новую политическую элиту? Президентские выборы в Австрии 2016 г., в 1-м туре которых одержал победу правый евроскептик Норберт Хофер, – ясное тому свидетельство и доказательство того, что запрос на правых в Европе как никогда велик.
Есть все признаки того, что объединенная Европа, сталкиваясь с дикостью, насилием и террором, «теряет самообладание» и поворачивается в своем движении вспять, отвечая на варварство политическим варварством. Об этом не раз говорил, например, папа Римский Франциск. В 2014 г. он сравнил Европу с «бесплодной женщиной, неспособной произвести дитя», но в ответ на гневную отповедь А. Меркель подчеркнул, что не все пока потеряно, ведь у Старого Света – «сильные и глубокие корни» и что Европа «в самые темные времена» всегда доказывала, что у нее «есть неожиданные ресурсы»3. Однако в мае 2016 г. в Риме, где понтифику вручили престижную премию имени Карла Великого – старейшую европейскую награду за вклад в объединение Европы, он вновь повторил свою мысль о том, что она «производит впечатление чего-то престарелого и изможденного»: «Что случилось с тобой, Европа гуманизма, чемпион по правам человека, свободам и демократии? Что случилось с тобой, Европа, прибежище поэтов, художников и музыкантов? Что случилось с Европой, матерью народов и наций, великих людей, которые жертвовали жизнями ради достоинства своих братьев и сестер? Мне кажется, стремление к европейскому единству исчезает. Те, кто расставляет повсюду стены, предают европейские ценности. Я же мечтаю о Европе, которая заботится о детях, предлагает братскую помощь бедным и обездоленным»1.
Однако если в 2014 г. его слова вызвали протест, то сегодня у политического класса Европы на него уже нет ни сил, ни времени. ПЕГИДА, «Альтернатива для Германии», «Национальный фронт» во Франции, Британская национальная партия, «турецкий тупик», ловушки русофобии делают пророчества папы реальными и опасными.
Европа начинает формулировать запрос на новую политическую элиту. Как ни странно, но в этой связи востребованными и актуальными кажутся нам рассуждения Платона о том, каким должен быть настоящий политик – руководствоваться в своей деятельности интересами народа и опираться на вечные моральные ценности.
А у рядовых граждан слова папы пробуждают страх и сожаление: «…он не питал никакой надежды, что люди станут лучше, поэтому конец этого прогнившего мира был близок…» [Делюмо 2009: 165]. Одновременно крепнет и ностальгия по добрым старым временам, «прибежищу поэтов, художников и музыкантов», Европе – «матери народов и наций», ностальгия по веку Кроноса с его пасторальными картинами счастливой жизни процветающих, свободных и суверенных национальных государств.
Проблема, однако, в том, что ностальгия порождает не только романтические чувства, но и страх возвращения мертвых. В связи с этим П. Рикер обратил внимание на фрейдовское понятие Unheimlichkeit – жуткое . Он рассуждал о «пугающей чуждости истории», анализируя в этой связи идеи Левинаса о враждебности Другого и хайдеггеровское понятие «бытие-к-смерти» [Рикер 2004: 481-573]. Ф. Анкерсмит, обосновывая свою концепцию ностальгии как исторического опыта, наиболее адекватного для познания прошлого, показывает, что роспуск «связи между объектами мира и между этими объектами и нами самими» порождает «чувство изгнания или исключения из самой реальности» [Анкерсмит 2003: 411-419]. Экстраполированные на эмпирическую реальность эти философемы означают опасность возврата Европы к временам дикости и средневековья, гражданским войнам и фашизму по образцу третьего Рейха. Призывы к кастрации мигрантов, помещению их в концлагеря, отстрелу на подступах к границе открыто позволяют себе действующие европейские политики2. А за стоящие за их плечами партии голосует их электорат.
В диалоге «Политик» Платон через миф об Атрее и Фиесте показал опасность варварского состояния человеческой жизни, к которой, по его мнению, приводит излишняя свобода [Бибихин 2001: 6]. Конечно, национализм свойствен не только Европе. Б. Андерсон критикует европоцентризм, предполагающий, что национализм зародился в Европе, а затем в том или ином виде был подхвачен во всем мире. Он считает, что националистические движения имели свои исторические корни и в Северной и Южной Америке, а также на Гаити и что эти движения не могут быть объяснены исходя из «этнических» или лингвистических оснований [Андерсон]. Думаем, что Андерсон здесь не совсем прав. Любой нацио- нализм произрастает из этноцентризма, а он одинаков и в Африке, и в Европе. Кроме того, национализм предполагает наличие нации, а тут Европе все-таки принадлежит приоритет.
Исторический опыт, негативный и позитивный, подталкивает европейцев одновременно и к унификации, связанной с идеей процветания общего европейского дома, и к несдерживаемому негативному пафосу, связанному с этикополитической максимой «благо для себя», опасной возрождением правого национализма. Динамика процесса расхождения нерадостного эмпирического бытия с миром абсолютного (торжество либеральной демократии) становится угрожающей, а осознание этой нетождественности все глубже проникает в самосознание и политическую культуру европейцев.
Сегодня сложно однозначно спрогнозировать, политический ли полдень или политическая полночь грозят Европе. На наш взгляд, и то и другое одинаково опасно, потому что и в том и в другом случае исчезают тени, и «больше не остается места для “теневых” нюансов между тем, что является существенным, а что случайным или просто проявлением чего-то» [Анкерсмит 2003: 411]. Фантазии и реальность тогда совпадают, а это опасно для общественной и государственной жизни, а в конечном итоге – для мирового сообщества. Наивно устанавливать здесь цепочку оппозиций: весна, жизнь, новые побеги или зима, смерть, сухое дерево. Баланс сил может качнуться в любую из сторон. «Одно время метеорологи питали серьезные надежды на разработку устройств, позволяющих давать точные и надежные прогнозы погоды. Этим надеждам не суждено было сбыться, поскольку ясно, что простые вариации в исходном состоянии системы (взмах крыльев бабочки в Бразилии) могут привести к драматически иным последствиям (торнадо в Техасе)» [Мегилл 2011: 120]. Конечно, политический прогноз существенно отличен от прогноза метеорологического, однако эффект бабочки одинаково действует как в природе, так и в общественной жизни. Век Зевса и век Кроноса Европы должны войти в равновесное состояние. Взлетов и падений, максимумов и минимумов избежать невозможно, но все же главный принцип естественной политической жизни – не останавливаться и не кончаться, а также спонтанность и гармония.
Список литературы Фантазия и реальность в политическом мышлении современной Европы
- Андерсон Б. Голос, определивший эпоху: о взаимодействии между «фантазией и реальностью» в политике: тезисы. Доступ: http://gefter.ru/archive/author/anderson (проверено 30.06.2016)
- Анкерсмит Ф. 2003. Историзм и постмодернизм. Феноменология исторического опыта. -История и тропология, взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция. 496 с
- Бенуа, Ален де. 2009. Против либерализма. СПб: Амфора. 480 с
- Бибихин В.В. 2001. «Политик» Платона и проблема правды. -Историко-философский ежегодник 1999. М.: Наука
- Делюмо Ж. 2009. Ужасы на Западе. Страх Апокалипсиса. -Ж. Делюмо, Дж.Дж. Фрезер. Идентификация ужаса. М.: Алгоритм. 240 с
- Мегилл А. 2011. Карл Маркс: бремя разума. М.: Канон +. 336 с
- Рикер П. 2004. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы. 728 с