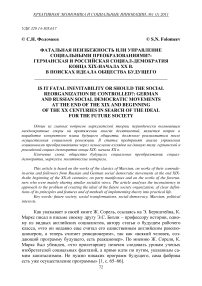Фатальная неизбежность или управление социальными преобразованиями: германская и российская социал-демократия конца xix-начала ХХ в. в поисках идеала общества будущего
Автор: Фоломеев Сергей Николаевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Теория социальных и экономических преобразований
Статья в выпуске: 1 (1), 2011 года.
Бесплатный доступ
Одним из главных вопросов марксистской теории, периодически вызывавшем неоднократные споры на протяжении многих десятилетий, является вопрос о выработке конкретного плана будущего общества, должного реализоваться после осуществления социальной революции. В статье предпринят анализ управления социальными преобразованиями через осмысление взглядов на данную тему германской и российской социал-демократии конца XIX- начала XX в.
Общество будущего, социальные преобразования, социал-демократия, марксизм, политические интересы
Короткий адрес: https://sciup.org/14238895
IDR: 14238895 | УДК: 329.14-305.617
Текст научной статьи Фатальная неизбежность или управление социальными преобразованиями: германская и российская социал-демократия конца xix-начала ХХ в. в поисках идеала общества будущего
Как указывает в своей книге Ж. Сорель, ссылаясь на Э. Бернштейна, К. Маркс писал в письме своему другу Э.С. Бизли – профессору истории, одному из видных английских социалистов, автору статьи о будущем рабочего класса, «что он недавно еще считал его единственным английским революционером, а теперь считает реакционером», так как «всякий человек, создающий программу будущего, есть реакционер». По мнению Ж. Сореля, К. Маркс был убежден, «что пролетариату незачем следовать урокам ученых изобретателей социальных фантазий, а прямо идти по путям, указанным самим капитализмом. Не нужно никаких программ будущего, сама фабрика есть уже осуществление программы» [1, с. 65–66].
Подобную мысль мы встречаем и у Ф. Энгельса в его работе «АнтиДюринг». Давая оценку деятельности социалистов-утопистов, он указывал, что они «были утопистами потому, что ... не могли быть ничем иным в эпоху, когда капиталистическое общество было еще так слабо развито. Они принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо эти элементы еще не вырисовывались ясно для всех в недрах самого старого общества». Продолжая эту мысль далее, он подчеркивал, что «средства для устранения осознанного зла должны заключаться в более или менее развитом виде в самих изменившихся условиях производства» [2, с. 251–252].
Еще одним подтверждением достоверности изложенных выше соображений, их соответствия идеям К. Маркса, служит работа В.И. Засулич «Элементы идеализма в социализме». Ссылаясь на труды К. Маркса, опубликованные в «Архиве» Брауна, В.И. Засулич утверждает, что он рассматривал социализм как «безличный процесс постепенного усовершенствования капиталистического общества», который «совершенно немыслим как результат направленного к определенной цели действия реального, имеющего объединенную волю исторического субъекта – пролетариата» [3, с. 4].
Привычку К. Маркса к «сжатым формулам» Ж. Сорель объясняет его «ограниченным личным опытом», который «не позволил ему в подробностях уяснить себе те средства, которыми пролетариат может воспользоваться для революции». Именно поэтому, по словам Ж. Сореля, К. Маркс «избегал употреблять слишком конкретные формулы ..., найдя в германской философии способ отвлеченного ... выражения, позволившего ему избегать всяких подробностей» [1, с. 67].
Эти соображения в целом соответствуют идеям, изложенным К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии», совпадают с их постулатом об объективной исторической неизбежности крушения капитализма и установления социализма. Организованный и сознательный пролетариат является лишь ускорителем этого процесса.
Указания на фатальную историческую неизбежность грядущего крушения капитализма можно найти в работах ярой сторонницы идей К. Маркса, представительницы леворадикального крыла немецкой социал-демократической партии Р. Люксембург. В своей статье «Чего мы хотим?» она отмечает, что «социалистический переворот является той желанной целью, к которой общественный прогресс направляется с неумолимой силой. И для ускорения этого момента нужно только то, чтобы рабочий класс всех стран возможно точнее уяснил себе, каким способом, какими путями он должен выполнить эту задачу» [4, с. 11].
В этой же работе Р. Люксембург, так же как и К. Маркс, указывала на невозможность определения черт будущего общества. «Представить себе во всех подробностях, как будет выглядеть социалистический строй, невозможно, и все попытки такого рода основываются на фантазии» [4, с. 9]. Но при этом она называет его «главные основы», к которым причисляет принадлеж- ность всех средств производства обществу, общественное управление производством, «устранение продажи рабочей силы частным эксплуататорам и исчезновение на этой основе всякого социального неравенства». Указывает она и некоторые пути достижения этого идеала: «производство для всего общества по единому общему плану», «управление только из одного центра власти, … имеющего в своем распоряжении силу и надлежащие средства», «захват неограниченной власти в государстве» рабочим классом и установление его диктатуры. При этом она подчеркивает, что такая власть необходима «не для того, чтобы создать новую форму господства и гнета, а только для того, чтобы раз и навсегда уничтожить всякий гнет и всякое господство» [4, с. 9,15]. И далее она с пафосом восклицает: «Диктатура пролетариата будет последним случаем употребления насилия в человеческой истории вообще и первым случаем употребления его на пользу широкой массы обездоленных» [4, с. 15].
Сегодняшний опыт и знание того, как развивались последующие события с осуществлением этого идеала (в том числе в нашей стране), указывают на существенное расхождение того, что декларировалось в программных документах коммунистов, и того, что происходило в реальности. Указания на фатальную неизбежность наступления социализма и необходимость ускорить этот процесс с помощью диктатуры пролетариата, на невозможность определить существенные черты будущего общественного идеала и более чем детальная проработка силовых способов завоевания власти и реализации ее установок должны были бы насторожить сознательные слои общества, вызвать недоверие к такой политике. Однако и другие радикальные проекты преобразования общества немногим отличались от марксистского.
Не намного дальше Р. Люксембург продвинулся в определении черт будущего социалистического общества и ближайший сподвижник и ученик К. Маркса – К. Каутский. Первоначально он пытался утверждать, «что не наше дело – ломать себе голову над рецептами для кухмистерской будущего» [5, с. 11]. Однако жизнь неумолимо ставила эти вопросы на повестку дня. Другие руководители германской социал-демократии и ее рядовые члены требовали включения в партийную программу положений, которые указывали бы путь перехода от капитализма к социализму. Категорически выступая против внесения в программу подобных положений, К. Каутский «считал неправильным предписывать партии уже теперь определенный образ действий на случай такого события, которого мы себе не представляли, лишь смутно предчувствуя его, и которое будет заключать в себе очень много неожиданного для нас» [5, с. 11]. Под влиянием критики соратников по партии К. Каутский все более склонялся к необходимости «исследовать те проблемы, которые должны выдвинуться перед нами после завоевания политической власти пролетариатом». Данный процесс он стал рассматривать как «полезную работу мысли, способствующую выработке более ясных и устойчивых политических взглядов». Такая работа имела значение, по его мнению, и с точки зрения пропаганды, так как «противники утверждают, что наша победа поставила бы нас лицом к лицу с неразрешимыми задачами» и вселила бы уверенность в ряды собственной партии, так как некоторые ее члены «изображают в самом мрачном виде последствия нашей победы: день победы, говорят они, будет для нас вместе с тем и днем поражения» [5, с. 11–12].
Для того чтобы прийти к определенным результатам и не «потеряться в безбрежном море фантазий», К. Каутский предлагает исследовать «выдвигающиеся проблемы в простейшей их форме, в какой они никогда не предстанут перед нами в действительности, и оставить в стороне все осложняющие дело обстоятельства». При этом он ссылался на подобные методы исследования, практикующиеся в науке, не забывая при этом, «что в действительности дело обстоит не так просто и идет не так гладко, как в абстракции» [5, с. 12]. Рассуждая подобным образом, он приходит к заключению, что «только таким путем и можно вообще прийти к каким-либо определенным научным выводам относительно видов на успех социальной революции» [5, с. 13]. Продвигаясь к цели другим путем, «нельзя сказать ничего определенного ни за, ни против».
Признавая некоторую логику в рассуждениях К. Каутского, нельзя не отметить легковесности подхода при рассмотрении важнейших проблем общества. Если неудавшийся научный эксперимент в большинстве случаев можно повторить, изменить условия его реализации, приняв во внимание абстрагирование исследователя от ряда, по его мнению, второстепенных факторов, то подобный подход не применим к решению сложнейших общественных задач: его издержки могут быть чрезвычайно высоки, а последствия грозят обществу социальной катастрофой.
Несогласие с подобной точкой зрения К. Каутского высказывает и М.И. Туган-Барановский, известный русский экономист, имевший в молодости непосредственное отношение к революционному марксизму. В своей работе «Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма» он метафорически сравнивает идеал со звездой, «по которой в ночную пору заблудившийся путник выбирает дорогу». Особенность идеала состоит в том, что путник «никогда не приблизится к удаленному на неизмеримое расстояние светилу» и далекая прекрасная звезда не заменит «прозаический и вполне доступный фонарь под руками» [6, с. 71]. «Если идеал можно сравнить со звездой, то наука играет роль фонаря. С одним фонарем, не зная куда идти, не выйдешь на истинную дорогу; но и без фонаря ночью рискуешь сломать себе шею. И идеал и наука в равной мере необходимы для жизни. Идеал дает нам верховные цели нашей деятельности; наука указывает средства для осуществления этих целей и снабжает нас верным критерием для определения, что и в каких целях, и в какой мере, в какое время осуществимо» [6, с. 72].
Отказ от научного подхода к достижению идеала противоречит собственным рассуждениям классиков марксизма. В известной работе Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» утверждается, что К.
Маркс превратил утопию в науку [7, с. 102–167]. Отсюда, по мнению М.И. Туган-Барановского, возникло «пренебрежение многих марксистов к «социальному идеализму», место которого заняло «понимание законов общественного развития» [6, с. 254]. К. Маркс, по утверждению М.И. Туган-Барановского, пытается поставить на место социального идеала социальное предвидение. Но «познание будущего навсегда обречено быть частичным, оставляя, таким образом, широкий простор для нашей воли» [6, с. 257]. Именно поэтому «возможно полное предвидение будущего есть лучшее оружие в борьбе за социальный идеал!.. Не социальное предвидение, а социальный идеал является верховным вождем в социальной борьбе» [6, с. 257]. «Без энтузиазма, без бескорыстного, религиозного подчинения себя, своей личности, всех интересов, всей своей жизни чему-то более высокому, чем мы сами, нельзя достичь великих социальных целей... А только идеал может порождать энтузиазм» [6, с. 258–259]. Увы, тогда М.И. Туган-Барановскому еще не было известно, что подобные подходы могут привести не только к освобождению общества и личности от насилия и угнетения, но и к тоталитарному государству.
Отказ от уяснения идеала будущего общества мы встречаем и в совместной работе Карла Каутского и Бруно Шёнланка. Обращая первостепенное внимание на развитие классовой борьбы, увеличение силы и влияния пролетариата, его воздействия на крестьян и ремесленников, борьбе против эксплуатации, то есть текущим задачам социал-демократии, в ней отвергается построение планов будущего общества [8, с. 45].
В работе К. Каутского «Путь к власти» (впервые издана в 1909 г.) высказывается точка зрения, развивающая и дополняющая позицию К. Маркса об обществе будущего. В главе 3 данной работы, озаглавленной «Врастание в государство будущего», К. Каутский так же, как и К. Маркс, не идет по пути конкретизации черт будущего общества, указывая вместе с тем на объективно и неизбежно осуществляющийся процесс трансформации капитализма в социализм. По его мнению, этот процесс имеет двойственный характер. С одной стороны, подготовление социализма осуществляется благодаря концентрации капитала, а с другой – через рост и организацию рабочего класса. Таким образом, «врастание в социализм есть только другое выражение постоянного обострения классовых противоречий, врастание в эпоху великих и решительных классовых битв, которые мы называем социальной революцией» [9, с. 27–29].
Боязнь марксистов заглянуть в завтрашний день, более полно и тщательно определить черты общества после завоевания пролетариатом политической власти, отмечает и Ж. Сорель – теоретик анархо-синдикализма, в целом разделяющий стратегические установки К. Маркса на необходимость социалистических преобразований в обществе и указывающий, что непосредственный путь к социальной революции пролегает через всеобщую пролетарскую стачку и насилие. В своей работе «Размышления о насилии» он излагает точку зрения К.Каутского на способ организации труда рабочих на другой день после социальной революции. «Если синдикаты имели достаточно силы для того, чтобы заставлять в настоящее время рабочих покидать свои мастерские и приносить большие жертвы во время предпринимаемых против капиталистов стачек, они, несомненно, будут достаточно сильны и для того, чтобы привести снова рабочих в мастерскую и добиться от них прекрасной и правильной работы, раз будет признано, что эта работа необходима в интересах всего общества» [1, с. 152]. Указывая на слабость данного умозаключения К. Каутского, Ж. Сорель находит в нем и «кое-что верное»: «...сила, создающая революционное движение, должна была бы создавать и мораль производителей» [1, с. 53].
Ссылаясь на своих старших товарищей из германской социал-демократии, в частности, на пример «Эрфуртской программы», российские последователи марксизма подчеркивали, что «социал-демократия, в противоположность утопическим социалистам, вообще не занимается изготовлением знахарских рецептов и проектов введения социализма, ... изображает лишь те общие тенденции, которые неуклонно ведут к социализму, и выставляет лишь общие принципы социалистического идеала ... и не считает возможным уже теперь чертить детальный план социалистического строя, предоставляя это тем поколениям, которые будут участниками социальной революции» [10, с. 14–15]. В силу подобного подхода программа-максимум РСДРП «определяет лишь общие и основные признаки социалистического строя, ... решительно отказываясь от внесения в программу фантастических картин «будущей жизни», как бы заманчивы они ни были» [10, с. 4, 15].
Не следует рассматривать подобный подход российских социал-демократов к вопросу будущего общественного устройства только как некритическое заимствование опыта более развитой в теоретическом отношении и в практике повседневной работы немецкой социал-демократии. Г.В. Плеханов еще в своей работе «Социализм и политическая борьба», выступая за «захват власти в социалистической революции», сознается, что «мы... отнюдь не верим в близкую возможность социалистического правительства в России», а потому не упражняемся «в придумывании социальных экспериментов и вивисекций, исход которых всегда более чем сомнителен» [11, с. 330]. В другой своей работе Г.В. Плеханов, говоря о необходимости экспроприации крупных землевладельцев в революционную эпоху, обусловливает постановку вопроса и его решение соотношением общественных сил.: «Говорить о нем теперь преждевременно…» [19, с. 236]. В «Письме г. Г.» – бывшему народоправцу, недавно перешедшему на сторону социал-демократии, Г.В. Плеханов подчеркивает, что в данный момент «ненаучно говорить о будущей форме общества.. Об этом мы не можем пока иметь никакого представления. Данные настоящего дают нам на этот счет мало указаний, и мы не можем предвидеть всех изменений в технике и производственных отношениях, которые может нам принести будущее. Догадки же ставить в основе программы совершенно неблагоразумно и может привести к недоразумениям и разочарованиям. Мы можем говорить об ограничении капиталистической эксплуатации, говорить даже (и то ещё вопрос) о её уничтожении, но и только. Но о форме этого идеала мы не имеем права говорить» [20, с. 496].
Тот же подход мы встречаем позднее в работе В.И. Ленина «Государство и революция». Отмечая, что « у Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое общество», В.И. Ленин подчеркивал, что «так как мы не занимаемся сочинением утопических систем будущего общества, то было бы более чем праздным делом останавливаться на этом» [21, с. 287, 295].
Таким образом, данный подход не есть слепое копирование политической традиции немецкой социал-демократии, имевшей огромное влияние на формирующуюся российскую социал-демократическую партию. Тем не менее, это влияние было велико. Как отмечает Ю. Стеклов, некоторые представители российского марксизма, указывая на схожесть многих положений партийных программ немецких и российских марксистов, договаривались до того, что считали, будто российская «социал-демократическая программа «добросовестно переведена с немецкого» [12, с. 5].
В неменьшей степени подобный подход к уяснению черт будущего общества у российских социал-демократов объясняется предшествующими российскими леворадикальными традициями. Так, в работе теоретика русского анархизма М.А. Бакунина «Государственность и анархия» «идеалы народа» отделяются от теорий, рожденных вне народного творчества. «То, что мы называем идеалами народа, ничего не имеет подобного с теми политиче-ски-социальными схемами, формулами и теориями, выработанными помимо народной жизни, досугом буржуазных ученых или полуученых и предлагаемыми милостиво невежественной народной толпе, как необходимое условие их будущего устройства. Мы не имеем ни малейшей веры в эти теории, и самые лучшие из них кажутся нам прокрустовыми кроватями, слишком узкими для того, чтобы охватить могучее и широкое раздолье народной жизни» [13, с. 239–240]. Отказывая науке в возможности «угадать формы будущей общественной жизни», он признает за ней «только отрицательные условия», вытекающие из «строгой критики существующего общества». «Поэтому никакой ученый не в состоянии научить народ, не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции» [13, с. 240]. Это определится положением народа и теми стремлениями, которые в нем проявятся, а «не руководствами и мнениями сверху и вообще никакими теориями, выдуманными накануне революции». В основе же народного идеала, по мнению М.А. Бакунина, лежит убеждение, что земля принадлежит народу, правом пользования ею наделяется только община (мир), которая обладает квази-абсолютной автономией, основанной на общинном самоуправлении [13, с. 244].
Идеал будущего русского общества теоретик пропагандистского направления народничества П.Л. Лавров определял в самых общих чертах, дающих простор «развитию личности в физическом, умственном и нравственном отношении» [14, с. 259]. Его, по мнению П.Л. Лаврова, «следует постоянно иметь в виду, не обманывая себя, однако же, надеждою на возможность его осуществления ни сегодня, ни завтра» [15, с. 259].
Позиция руководителя заговорщического направления в народничестве П.Н. Ткачева, принципиально отличаясь от взглядов П.Л. Лаврова по другим вопросам, практически совпадает в отношении к обществу будущего. Вопросы грядущего стушевываются, отходят на задний план. «Нам некогда, нам не до того, чтобы вперять свои взоры в будущее и развлекать себя созерцанием его красот... Я не хочу этим сказать, что мы должны совсем отказаться от их разрешения. Но мы не должны раздувать их важность настолько, чтобы делать из них барьер, разделяющий революционную партию настоящего» [16, с. 262]. Главная задача сегодняшнего дня: «Делать революцию. Как кто может и умеет» [16, с. 261].
Тот же подход мы видим в передовой статье «Земли и Воли» от 25 октября 1878 г.: «Мы не верим в возможность путем предварительной работы создать в народе идеалы, отличные от развитых в нем предшествующей его историей. На все попытки подобного рода мы смотрим как на совершенно нерасчетливую трату сил... Предоставим же будущее будущему. Настоящему предстоит достаточно громадная задача: осуществление народной революции, которая одна в состоянии развить будущий социалистический строй из тех элементарных основ, которые уже созданы в умах народа» [17, с. 273–274].
Так или иначе, социал-демократы оказались вынуждеными заняться рассмотрением проблем будущего общества. Одним из первых в германской социал-демократии вопросы будущего социалистического общества начал разрабатывать Иосиф Дицген, который в 1878 г. в Кёльне прочёл доклад о будущем социал-демократии, за который он впоследствии отсидел около 3 месяцев в тюрьме. Он также, как и его соратники по партии, исходил из того, что теоретикам партии «не представилось возможности урвать достаточно времени для детальной разработки основ философии марксизма» [18, с. 1]. В силу этого он в определенной степени признавал обвинения в «недостаточной обоснованности этого учения с философской стороны и пренебрежении к теории познания» [18, с. 1]. По всей видимости, И. Дицген в большей степени, нежели другие партийцы, понимал необходимость уяснения основ будущего общества. Он отмечал, что «друг и недруг занимаются этим вопросом: товарищи для того, чтобы в рельефной картине изобразить предмет своих стремлений и надежд, противники – для того, чтобы выискать недостатки и унизить ненавистного выскочку» [18, с. 1]. Он подчеркивал, что «наше будущее представляет собой не предмет частного умозрения, а исторический продукт, в образовании которого участвует народ во всей своей массе»
[18, с. 1]. Отмечая коллективное творчество масс, И. Дицген указывал, что «социал-демократия не имеет никаких пророков, никаких богом одаренных собственных оракулов, вещающих истину. Социал-демократическая истина обнаруживается путем всеобщим.. То, что признают все – абсолютно истинно, и признаваемое большинством – истиннее признаваемого меньшинством или одним.» [18, с. 1]. Таково отношение И. Дицгена к распространенной в то время в обществе теории «героев и толпы». Своеобразно и понимание им социал-демократической истины: истина не может быть таковой, если она высказана одним человеком или группой лиц. Это высказывание ставит под сомнение «истинность» воззрений К. Маркса и его последователей. Но чуть позже И. Дицген фактически опровергает собственное мнение: «…Не исключается возможность того, что просвещенные пророки и великие гении видят дальше массы; но они не имеют никакого значения, пока их частный взгляд не получил признание у массы… Но отдельным личностям можно, конечно, сообразно своим взглядам и мнениям обсуждать вопросы формы будущего, делать предположения и высказывать мнения, – и все это только под понятным условием, что это – скромное частное мнение» [18, с. 2].
Не отрицая важности «демократической всеобщности», лежащей в основе деятельности партии, И. Дицген всячески поддерживает «единодушие» в её рядах.. «Только ограничению нашей программы всеобщим, неоспоримым и недвусмысленным мы обязаны совершенным исключением всего сектантского, или, по крайней мере уменьшением сектантства до незначительной величины.. Сомкнутое движение рабочих батальонов может сохраниться лишь в том случае, если они не обращают внимания на неясные цели, идут тесно плечом к плечу, не отделяясь, не забегая вперед, не отставая, не уклоняясь в сторону» [18, с. 2]. Таким образом, под сектантством он понимает не отрыв партии от рабочих масс, а «демократическую всеобщность», вышедшую за обозначенные пределы и мешающие единению партии. Именно её он стремится заменить идейным шаблоном и духовным «единодушием». Эти идеи впоследствии наиболее ярко были развиты В.И. Лениным в его работе «Что делать?».
От теоретических и партийно-организационных вопросов И. Дицген переходит к организации труда в социалистическом обществе, руководствуясь принципом: «В изображении будущего общества недопустимы ни мрачные краски, ни скачки» [18, с. 3]. Прежде всего он ставит вопрос о получении каждым рабочим справедливой оплаты труда – «полного продукта его труда». И здесь он связывает справедливость с уместным и возможным в данный момент. Реализовывать право рабочего на «полный продукт труда» в условиях буржуазного общества «невозможно, потому что это есть дело будущего – дальнейшего исторического развития» [18, с. 5]. И здесь он связывает справедливость с культурой общества: «справедливость растет с культурой, но как нельзя думать о введении путем диктата культуры, так же невозможно установить справедливость в определенный день! Мы можем лишь культи- вировать её, постепенно вырабатывать» [18, с. 5].
Несправедливым он считает изъятие средств производства у мелких ремесленников и крестьян и выступает за конфискацию собственности у капиталистов. И здесь его подход совпадает с точкой зрения К. Маркса. Однако степень радикальности действий новой власти в отношении эксплуататоров, по его мнению, должна зависеть от того, «насколько эти господа держали себя прилично, настолько будем приличны и мы. Эксплуататоры должны быть экспроприированы за умеренное вознаграждение» [18, с. 5–6].
У Дицгена нет сомнений в том, что в социалистическом обществе «мы сумеем осуществить справедливость в несомненной форме. Не надо только педантизма, никаких философских ухищрений! К ним следует причислить, например, следующие вопросы: Каким образом должно совершаться вознаграждение рабочих в государстве с социалистическим производством: чисто ли по-коммунистически, совершенно равномерным распределением благ, или каждый рабочий должен получить полный продукт своего индивидуального труда? Соответствует ли справедливости, чтобы старательный получал равный доход с ленивым, или, быть может, справедливость требует даже, чтобы одаренный силой и талантом работал также за своего слабого или неспособного брата!» [18, с. 6]. И это «несомненная форма справедливости»? Такие «педантичные» вопросы в несправедливом буржуазном обществе не могут возникнуть в принципе. И эти чрезвычайно важные вопросы остаются, по существу, вне обсуждения: «…Подобные разговоры не только праздны, они, по существу, ложны, так как исходят из ошибочного в своем основании взгляда, будто государство будущего может быть государством, построенным по заранее определенному шаблону» [18, с. 6].
И. Дицген, также как и К. Маркс, считал, что социализм – это переходный период на пути к коммунизму и исходил из того, что «социалистический мир будет, конечно, не таким, как этот дурной буржуазный мир, но не всецело другим; он всегда будет опять-таки тем же самым миром. Несправедливость будет, конечно, уничтожена, но несправедливость все же и останется…» [18, с. 6]. И здесь он вновь обращается к вопросу оплаты труда и вопрошает: « Разве может быть, чтобы один человек не работал за другого? Разве не всегда было так? Не только сильный за слабого, прилежный за ленивого; прилежный также должен помогать прилежному. Ведь это единственное средство культуры – мы собираемся в кучу, чтобы в товариществе достигнуть того, чего нельзя достигнуть в одиночку» [18, с. 7]. Здесь И. Дицген, в отличие от К. Маркса, считавшего экономический фактор детерминирующим в развитии общества, указывает на значимость культурного фактора в жизни социалистического общества. Не ставя под сомнение значимость совместных усилий в достижении поставленной цели, мы, тем не менее, можем предположить, что в этих условиях будет доминировать не синергия, а иждивенчество. Выступая, как и К. Маркс, против эксплуататорской сущности буржуазного общества, стремясь к её ликвидации, отрицая эксплуатацию че- ловека человеком, И. Дицген, по существу, высказывается за её сохранение, одобряя работу прилежного за ленивого. В основе такой эксплуатации лежали бы не отношения собственности, как в буржуазном обществе, а государственная политика социального иждивенчества.
Запутавшись в вопросах справедливости и экономической целесообразности, считая «чрезвычайно важным, что Маркс познакомил нас… с материальной или эмпирической мерой ценности буржуазной экономии», И. Диц-ген, тем не менее, пришел к выводу, что «на многие годы социалистическое государство сумеет вполне удовлетворить потребность большой массы, если оно (не входя в подробную оценку продукта труда) будет платить каждому рабочему за восьмичасовой нормальный рабочий день обычную в стране среднюю плату с надбавкой в 100%...» [18, с. 7]. Не имея возможности установить, «соответствует ли это полному продукту труда», не превышает ли зарплата доходов от производства, И. Дицген не видит никаких затруднений в том, что «социалисты не смогут свести концы с концами и первые годы живут за счет национального богатства» [18, с. 8]. Учитывая указанные особенности социалистического труда по И. Дицгену, о которых говорилось выше, трудно предположить, что «в последующие годы производство вернет вложенное в него в двойном и тройном количестве» [18, с. 8].
Обходя стороной вопросы экономической рациональности такого производства, не указывая механизм его развития, И. Дицген, тем не менее, верит в то, что «если не скряжничает даже хорошо обеспеченный капиталист, то почему это должен делать гораздо лучше обеспеченный капиталами социализм? И если среди товарищей есть такие, которые не знают, откуда возьмутся деньги, то мы можем их уверить, что наше национальное богатство велико и что в вопросе обращения его в оборотный капитал мы ещё менее щепетильны, чем Бисмарк» [18, с. 8]. Готовность жить в социалистическом обществе за счет накопленных другими поколениями богатств, фактически – реализация лозунга «грабь награбленное», нашли яркое отражение в подходах И. Дицгена к строительству нового общества. Об этом говорит отсутствие выверенных экономических механизмов в строительстве будущего общества, каких-либо сомнений и колебаний, популистские заверения и обещания («я не понимаю, почему товарищи видят в будущем столько затруднений», главное – «завоевать политическую власть». «Где есть в избытке средства, материал, желание и сила, там не могут помешать мелочи» [18, с. 8]).
И. Дицген подчеркивает, что между капиталистическим обществом и обществом будущего должен быть переходный период, в котором возможно будут существовать и деньги, необходимые для обмена и оценки продуктов. Но в то же время он задается вопросом: «Почему бы нам и впредь не оставить «общественно необходимое рабочее время» в качестве имманентного мерила ценности всех продуктов?». Главное, чтобы была хорошо оплачиваемая работа, и тогда массы «удовлетворятся нашим успехом» [18, с. 9].
И. Дицген также считает необходимым при строительстве общества бу- дущего отделение существенного от пустяков. «Теперь нас главным образом давит то, что продукт нашего тяжелого труда проедают тунеядцы. Этому горю в социалистическом государстве легко помочь, так как мы работаем там не на службе у частного капиталиста, а своими собственными государственными инструментами» [18, с. 9]. Под тунеядцами И. Дицген подразумевает эксплуататоров-капиталистов. Но разве не такими же эксплуататорами народа являются лодыри-рабочие, которым И. Дицген собирается платить зарплату? Разве эксплуатация исчезает от того, что рабочие используют в производстве государственные инструменты?
Принцип «кто был ничем, тот станет всем» также нашел отражение в размышлениях И. Дицгена по преобразованию общества. «В социалистическом будущем рабочие сделаются государственными чиновниками, а чиновники сделаются тем, чем являются и в настоящее время значительное большинство – честными рабочими. Нужно только выбить из них высокомерную уверенность, что легкомысленные канцеляристы призваны управлять государством. Это лучше всего сделают народные массы» [18, с. 10]. О том, как народные массы управляли государством и производством, какие проблемы при этом у них возникли и как их приходилось решать красноречиво написал В.И. Ленин в работе «Очередные задачи Советской власти». Эти проблемы в значительной степени привели впоследствии к замене политики «военного коммунизма» НЭПом.
Возможные затруднения в деле организации производства, которые могут «продолжаться очень долго» (в другом случае И. Дицген говорит о том, что «социалисты сделают свое производство разумнее и цельнее» [18, с. 14], не пугают И. Дицгена. По его мнению, промышленный прогресс и усовершенствование машин могут «устранить деление труда на специальности», что уже теперь «прежнее профессиональное искусство сведено к простым движениям рук», что «современной промышленности нужно все меньше обученных ремесленников, все более и более работа превращается в общечеловеческий средний труд, который может быть произведен в самых разнообразных отраслях любым средним человеком» [18, с. 11]. Эти сентенции весьма напоминают многочисленные объявления вчерашнего (да и сегодняшнего) дня о предоставлении работы, где образование и профессия роли не играют.
Эти утопически-упрощенные представления об организации труда в обществе будущего он дополняет размышлениями об обоснованности и неизбежности отсутствия свободы выбора профессии его гражданами. «Если бы в нашем государстве будущего и могло случиться, что кто-нибудь, желающий стать живописцем, должен был работать с тачкой, то это было бы ничем не хуже настоящего, когда многие, мечтающие о генеральстве, занимают места пономарей, полицейских служителей и другие низшие должности… Каково бы ни было будущее, хуже настоящего оно для них не может быть. Им нечего терять» [18, с. 11]. Откуда же тогда возьмется позитивное восприятие общества будущего и стремление его созидать, если оно, по существу, ничем не отличается от настоящего? В другом месте своей работы И. Дицген уже утешает своих граждан, с упоением подчеркивая, что «ввиду богатого запаса всяких средств справедливое распределение будущих обязанностей и прав не составит предмета особенных забот»[18, с. 14].
Психологические мотивации рабочих к труду в социалистическом обществе И. Дицгеном явно преувеличены. «Они (рабочие – С.Ф.) не хотят теперь работать всяк за себя, а только сообща, совершать работу как нечто целое. Товарищеское чувство для этого уже имеется и нуждается лишь в развитии» [18, с. 13]. Но далее И. Дицген намеревается опереться в строительстве социалистического общества не на «развитие товарищеского чувства», а на насилие, принуждение. Так он безапелляционно заявляет: «И отдельные лица, и специальные отрасли, и товарищества должны себе уяснить, что тонкие различия между твоим и моим в коммуне недопустимы…» [18, с. 13].
Противоречив И. Дицген и в принципах организации будущего общества. С одной стороны, он призывает граждан будущего государства «разумно умерять свои прихоти и капризы, устранять излишества», а с другой – подчеркивает, что «различие в талантах, в образе мыслей и во вкусах не должно от этого страдать. Не бедность, не воздержание, не безбрачие, не аскетическая нелепость, а богатство – вот наш принцип, и планомерное демократическое производство не может допустить урезывания законной оригинальности» [18, с. 14]. По всей видимости, речь идет о стремлении соединить несоединимое, хотя бы в теории.
Экономические отношения в обществе будущего И. Дицген предлагает осуществить на основе денег. Но с другой стороны, он рекомендует меры, которые, по существу, опровергают функцию денег: «Это значит, что один день труда стоит столько же, сколько другой. Если мы будем твердо держаться этого основного положения, социалистическое будущее никогда не придет к банкротству…» [18, с. 15]. Уравнительность в системе оплаты труда, таким образом, представляется И. Дицгену верхом справедливости. Однако граждане СССР, страны реального социализма, этой «справедливости» не поняли, не приняли и стремились к сдельной или аккордной оплате труда, которые считались проявлением буржуазного влияния на трудящихся страны. И. Дицген пытается обосновать предложенный им принцип уравнительности оплаты труда, в то же время, считая возможные разногласия в обществе по этому вопросу, несущественными. «Возможные при этом возражения, что на самом деле один день труда никогда не равен другому, что в той же мастерской один более старателен, другой более ловок, третий делает более легкую работу, что день труда гения представляет большую ценность, чем день труда механического – все эти возражения суть истины, которые товарищества между собой сумеют очень легко уладить, для целого же они представляются мелочными» [18, с. 15].
После прихода к власти И. Дицген не планирует сразу же провести на- ционализацию собственности. Он считает, что «социал-демократический государственный хозяин не должен сразу и насильственно поглотить всех частных хозяев, а вначале ограничиться отдельными отраслями и учреждениями, чтобы потом путем высокой оплаты и дешевых продажных цен сделать своим конкурентам жизнь невтерпеж» [18, с. 15]. Таким образом, инструментом преобразования в экономике И. Дицген видит сочетание административного ресурса и демпинговых цен, которые, по его мнению, способны решить проблему устранения частного производителя. Однако в реальной практике социалистического строительства поднять количество и качество производимой продукции до уровня демпинга власти и не собиралась, предпочитая решать этот вопрос исключительно административно-политическими мерами.
Не оставляет без внимания И. Дицген и социальную сферу. Надеясь предложенными мерами развить производство, он намеревается на его основе «получить коммунистическую организацию кухни и домашнего хозяйства», причем «наше государство устраивает гостиницы и рестораны и дешевыми ценами и хорошей пищей привлекает товарищей к пользованию общими обедами» [18, с. 15]. Вероятно, эти розовые мечты у И. Дицгена вполне сопрягаются с серьезными «затруднениями» в деле организации производства, которые могут «продолжаться очень долго». Общие обеды (если они только возможны при данном уровне производства и указанном сервисе) не только выполняют функцию удовлетворения потребностей граждан социалистического общества, но и гораздо более важную функцию социального контроля за поведением и образом мыслей последних. При этом И. Дицген, не понимая всей фальшивости своих заявлений, подчеркивает, что «должна оставаться, возможно, большая свобода и каждому работнику должно быть предоставлено, сообразно с собственным вкусом, израсходовать продукт своего труда в уединенной вилле или в оживленном ресторане» [18, с. 15–16]. При всех очевидных пороках буржуазного общества трудно представить себе отсутствие свободы распоряжения продуктом своего труда и необходимость испрашивать для этого у кого-либо разрешения. Хотя справедливости ради, следует отметить, что в начальный период развития капитализма, в условиях отсутствия организованного сопротивления рабочих, предприниматели нередко заставляли рабочих покупать товары в хозяйских лавках по повышенным ценам. И опять возникает вопрос: чем же отличается «справедливое социалистическое общество будущего» от общества эксплуатации и угнетения?
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что отсутствие достаточно разработанного варианта будущего общественного устройства в силу ряда причин характерно не только для ортодоксального марксизма немецкой социал-демократии конца XIX – начала XX в., но и для радикального крыла РСДРП этого же периода. Одной из главных причин подобного подхода было указание классиков марксизма на фатальную неизбежность краха капиталистического общества в силу раздиравших его социально-экономических противоречий. Это доказывалось с помощью теории научного социализма. Сюда же примешивалось и желание дистанцироваться от социалистов-утопистов, избежать нежелательной критики со стороны оппонентов как справа, так и слева, стремившихся найти и находивших противоречия и логические неувязки в теории марксизма. По всей видимости, в таком подходе находило свое место и нежелание теоретиков держать ответ перед товарищами по партии и согражданами (только не в России) в случае, если бы завоевание власти и преобразование общества осуществилось бы не по ранее предписанным вождями рецептам.
В полной мере это относится и к российской социал-демократии. Однако здесь следует указать и на определенное воздействие со стороны более опытной немецкой социал-демократии, и на влияние собственно российских леворадикальных политических традиций, в основе которых лежало стремление во что бы то ни стало захватить власть, а затем уже «осчастливить» общество наскоро изготовленными проектами его переустройства, не выходившими за рамки тактических партийных решений.
Что же касается соображений не формулировать достаточно определенно идеал будущего общественного устройства в России, опасаясь внести раскол в российское революционное движение, то они не выдерживают критики. Разобщенность действий российских радикалов определялась не только стратегическими расхождениями в выработке идеала будущего общества, но в большей степени тактическими разногласиями и дрязгами в лагере оппозиции, которые не без успеха помогала «раздувать» охранка самодержавия.
Таким образом, отсутствие у ортодоксальных марксистов сколько-нибудь детально разработанной программы-максимум привело их к идейным шатаниям и волюнтаризму при осуществлении строительства нового общества, к разобщенности действий как лидеров, так и рядовых партийцев, к отсутствию должной поддержки скороспелых планов преобразования страны основной массой населения. Кроме того, отсутствие плана преобразования общества у радикальной части РСДРП указывало на недостаточное понимание лидерами партии расстановки классовых сил в стране, свидетельствовало о довольно поверхностном представлении как о стоящих перед обществом задачах, так и о путях их реализации.
Список литературы Фатальная неизбежность или управление социальными преобразованиями: германская и российская социал-демократия конца xix-начала ХХ в. в поисках идеала общества будущего
- Сорель Ж. Размышления о насилии/под ред. и пер. В.М. Фриче. -М., 1907.
- Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом/под ред. и с введением Д. Рязанова. -3-е изд. -Л., 1930.
- Засулич В.И. Элементы идеализма в социализме. -СПб., 1906.
- Люксембург Р. Чего мы хотим?… Комментарий к программе С.Д. Польши и Литвы/пер. с польск. -СПб.: Эпоха, 1906.
- Каутский К. На другой день после социальной революции/пер. с нем. с предисл. А. Луначарского. -Пг.: Пролетарская Мысль,1917.
- Туган-Барановский М. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма. -2-е изд. -СПб.: Мир Божий, 1905.
- Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. -2 изд. -Т. 19. -С. 185-230.
- Основные положения и требования социал-демократии: Комментарий к Эрфуртской программе Карла Каутского и Бруно Шенланка/пер. с нем.; под ред. О. Аносовой. -М.: Книгоизд-во Е.Д. Мягкова «Колокол»,1906.
- Каутский К. Путь к власти/пер. с нем.; под ред. Н.Л. Мещерякова. -3-е изд., испр. и доп. -М.; Пг., 1923.
- Петр Ал. Наша программа. Программа максимум и минимум РСДРП. -М., 1906.
- Плеханов Г.В. Социализм и политическая борьба//Собр. соч. -М.: ГИЗ,1920. -Т. 1.
- Стеклов Ю. Историческое подготовление русской социал-демократии//Страничка из истории русской социалистической мысли. -СПб.,1906.
- Бакунин М.А. Государственность и анархия. 1873. Прибавление А.//История классовой борьбы в России в материалах и документах/под ред. Н. Карпова, М. Мартынова. -Л., 1926. -Т. 2.
- Лавров П.Л. Исторические письма. -СПб., 1906.
- Лавров П.Л. Наша программа // Вперед. Непериодич. изд. 1873 // История классовой борьбы в России в материалах и документах. - Т. 2.
- Ткачев П.Н. Задачи революционной пропаганды в России: письмо к редактору журнала «Вперед». -1874. -Апрель//История классовой борьбы в России. -Т. 2.
- «Земля и Воля» // Земля и Воля. - 1878. - 25 окт. // История классовой борьбы в России. - Т. 2.
- Дицген И. Будущее социал-демократии/предисл., пер. с нем. М. Иоффе. -Киев: Правда, 1906.
- Плеханов Г.В. Комментарий к проекту программы Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. -Т. 12. -С. 236.Соч. Т.12.
- Плеханов Г.В. Письмо Г. Г.//Соч. -Т. 12. -С. 496.
- Ленин В.И. Государство и революция//Полн. собр. соч. -Т. 33. -С. 1-120.