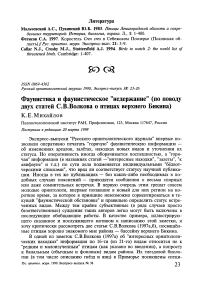Фаунистика и фаунистическое "недержание" (по поводу двух статей С.В. Волкова о птицах Верхнего Бикина)
Автор: Михайлов К.Е.
Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis
Статья в выпуске: 38 т.7, 1998 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140148833
IDR: 140148833
Текст статьи Фаунистика и фаунистическое "недержание" (по поводу двух статей С.В. Волкова о птицах Верхнего Бикина)
Экспресс-выпуски "Русского орнитологического журнала" впервые позволили оперативно печатать "горячую" фаунистическую информацию — об изменениях ареалов, залётах, находках новых видов и уточнении их статуса. Но оперативность иногда оборачивается поспешностью, а "горячая" информация (в названиях статей —"интересные находки", "залеты", "к авифауне" и т.д.) по сути дела подменяется индивидуальными "бёдвот-черскими списками", что вряд ли соответствует статусу научной публикации. Иногда в тех же публикациях — без каких-либо необходимых в подобных случаях пояснений — приводятся сообщения о весьма спорных или даже сомнительных встречах. В первую очередь этим грешат совсем молодые орнитологи, впервые попавшие в новый для них регион на короткое время, за которое в принципе невозможно сориентироваться в текущей "фаунистической обстановке" и правильно определить статус встреченных видов. Между тем крайне субъективные (в ряде случаев просто безответственные) суждения таких авторов легко могут быть включены в последующие обобщающие работы. В качестве примера, иллюстрирующего сказанное и послужившего мотивом к написанию этой заметки, я хочу критически рассмотреть две статьи С.В.Волкова (1997а,б), посвящённые птицам хорошо знакомого мне района — бассейну верхнего Бикина.
В одной из заметок С.В.Волкова (1997а) об "интересных орнитологических находках" информация по 16-ти (из 21-го) видам относится не к "редким и малоизученным" птицам (как указано во введении), а попросту к банальным (обычным и фоновым) видам района. Их гнездовой биологии (в том числе описанию гнёзд и яиц) в Приморье посвящены специ- Рус. орнитол. журн. 1998 Экспресс-выпуск № 38
альные публикации. Просто констатировать здесь встречу (особенно вокруг пос. Охотничьего) дубоноса, желтогорлой овсянки, белоглазки, пищухи, пёстрого и сибирского дроздов, ширококрылой и обыкновенной кукушек, как и мухоловок (сибирской, мугимаки, желтоспинной), а также крапивника и короткохвостки, чеглока и зимородка, — это то же самое, что констатировать после очередной воскресной экскурсии в Подмосковье встречи (или находки гнёзд) зяблика, веснички, певчего дрозда или белобровика. Могу понять, что для студента, впервые приехавшего на Дальний Восток на полтора месяца, все эти встречи новы и интересны, но ведь удерживаются же от публикации сообщений о встречах экзотических для них видов впервые попавшие в Европу дальневосточные орнитологи!
Спрашивается, какую новую информацию несёт перечисление этих встреч? И почему приводится только этот 21 вид, а не, скажем, любой другой из ПО обитающих в верховьях Бикина видов, в том числе гораздо более интересные и действительно редкие? Ответ прост: автор перечисляет только те виды, которые он наблюдал сам — один или вместе с кем-то. А поскольку за короткий срок он наблюдал в целом небольшое число видов (из тех, что мог определить самостоятельно, особенно по голосам), и большинство этих немногих, естественно, виды тривиальные, наиболее часто попадающиеся на глаза, то сведениями о них и наполняется статья. При этом автор определённо понимает, что публикация банальной информации не приветствуется, иначе как объяснить дезориентирующие редактора и незнакомого с регионом читателя подкупающие установки (в названии и введении) на "редкие и малоизученные виды" и "интересные орнитологические находки"? Значит, главное — напечататься во что бы то ни стало и как можно быстрее? Тогда что это, если не "недержание"? Такое несерьезное отношение к фаунистической публикации вызывает разве что сожаление, и остается радоваться, что из многих орнитологов, участвовавших в разные годы в бикинских экспедициях, не каждый считает необходимым публиковать свои личные списки встреченных здесь видов.
Из упомянутых 21 видов только каменушка и дикуша могут быть названы редкими (в целом по России). Но из-за недостатка материала (впрочем, зная, что им располагают другие участники экспедиций) автор и здесь неправильно проставляет акценты: дикуша в верховьях Бикина обычна (а не редка), а каменушка как раз редка (см.: Михайлов и др. 1997а). Просто наблюдавшиеся выше Зевы 30-40 каменушек (треть из них самки) составляют всю прибывшую на гнездовье бикинскую группировку. По руслу Бикина каменушка не гнездится, самки рассеиваются по верховьям бикинских притоков: Зевы, Бочелазы, Плотникова и др. Недоумение вызывают и замечания о редкости желтоспинной мухоловки и белоглазки в районе Охотничьего (очевидно, просто не распознавались их голоса), т.к. они были обычны здесь и в 1993, и в 1995, и в 1996.
В своей второй статье С.В.Волков (19976) в качестве "залётных" упоминает совсем не залётные виды. Орлан-белохвост в верховьях Бикина ежегодно летует и, может быть, гнездится (Михайлов и др. 1997а); черныш — обычный летующий вид (гнездится в верховьях Зевы — Михайлов и др. 19976). Широкорот гнездится в районе Охотничьего, а сизый дрозд — и ЭД Рус. орнитол. журн. 1998 Экспресс-выпуск № 38
выше по Бикину, до устья Зевы. Многие виды лесостепного и луговокустарникового ландшафта нижнего Бикина интразонально распространены по антропогенным "пятнам" (посёлкам, старым покосам, охотничьим балкам, лётным площадкам и т.д.) вплоть до Охотничьего (кроме упомянутой черноголовой камышевки, это толстоклювая камышевка, таёжный сверчок, ошейниковая овсянка, дубровник, сибирский жулан, соловей-красношейка). В мае-июне, после прилёта, эти и многие другие виды нижнего Бикина кочуют по его руслу вплоть до самых верховий (здесь можно встретить даже удода); в частности, упомянутые в заметке серые и малые скворцы, китайская иволга и китайская зеленушка ежегодно появляются на метеостанции Родниковая, в Лаухэ и Охотничьем. В отдельные годы в Охотничьем в массе появляются (и гнездятся) черноголовая гаичка и восточная синица. Выше Охотничего залетают кочующие по Бикину большие бакланы и озёрные чайки. Полевые воробьи (около 10 пар) "нормально" гнездятся в Охотничьем у продуктового склада (но в отдельные зимы, как и во многих других местах, вымерзают). Никакого отношения к залётам всё это не имеет. В качестве залётных на Бикине могут трактоваться встреченные здесь в разные годы тростниковая сутора (Бурковский 1996), чернозобая гагара, египетская и белокрылая цапли, белокрылый погоныш и другие виды, в принципе не гнездящиеся в бассейне реки. Термины всё-таки должны что-то значить. Публикацию же личных "бёдвотчерских списков" не вытянет ни один журнал, не потянут такой груз и выписывающие его читатели*.
Краткосрочность наблюдений и отсутствие опыта в распознавании видов приводят и к другим неверным толкованиям. Так, сибирская мухоловка на верхнем Бикине в основном связана не с "багульниковыми лиственничниками по склонам и водоразделам" (Волков 1997а), а с приустьевыми "окнами" (обычно в местах впадения ручьев) по долинам всех малых притоков Бикина в зоне тёмнохвойной тайги. В лиственничниках же в районе устья Килоу (указан как место очень высокой плотности сибирской мухоловки) существует "пятно" гнездования пестрогрудой мухоловки (почему-то совсем не указывается, хотя и более интересный вид), а в пойменном лесу здесь обычна ширококлювая мухоловка. Возникает опасение, что эти три вида не распознавались. Автор также не указывает, что у найденного гнезда сибирской мухоловки с неполной кладкой из 2 яиц птицы не наблюдались, и определение гнезда (а не сравнение уже определённого, как можно понять из текста заметки) сделано даже не на основании сравнения кладок в музейных коллекциях, а лишь по описанию одного из гнёзд этого вида, найденного в другом регионе. То же касается и гнезда пёстрого дрозда. Кладка была забрана, не дожидаясь появления родителей. В данном случае определение не вызывает сомнений, но отсутствие указания, на основании чего оно было сделано, говорит о беспечном отношении к возможности сделать ошибку.
Хочется заметить, что активность, называемая К.Е.Михайловым "бёдвотчерской", не была свойственна отечественным орнитологам. В русском языке даже нет слова, тождественного birdwatcher (птицегляд? птицеблюд?). Только в последние годы "бёд-вотчерство" стало активно насаждаться в стране сопровцами. — прим. ред.
Рус. орнитол. журн. 1998 Экспресс-выпуск №38 зс
От ошибок не застрахован никто, особенно если работаешь в таком сложном ландшафте, как уссурийская тайга, да ещё первый раз в жизни. Но беспечность (или чрезмерная самоуверенность) — не лучший помощник в подобной ситуации. Я оставляю на совести автора его смелое указание на встречи зимняков у устья Килоу и "по левому берегу Бикина выше устья Зевы" (Волков 19976, с.5). В тех же самых точках в июне-июле 1995 (мои наблюдения) и в июне-июле 1996 (совместные наблюдения Е.А.Коблика, К.Е.Михайлова и Ю.Б.Шибнева) достоверно наблюдали только канюков. Представить себе в этих облесённых местах зимняков трудно. Другое дело, что окраска многих верхнебикинских канюков отличается от наиболее типичной для вида, в частности, эти особи имеют очень светлый "капюшон" (брюхо кажется контрастным — как тёмное пятно), чем сильно напоминают как зимняков, так и светлую морфу мохноногого курганника. Темная же полоса по краю хвоста иногда встречается и у канюков. Сам по себе, в отдельности, этот признак не является диагностическим.
Надеюсь, эта моя критическая заметка послужит на пользу журналу. Мы все заинтересованы в получении не только оперативной, но и надёжной, и действительно значащей (не банальной) информации. Иначе оперативность теряет смысл. Возможно, хоть какое-то минимальное рецензирование фаунистических статей (см. также: В.В.Морозов 1997) действительно необходимо. С другой стороны, учитывая массу сегодняшних сложностей (даже с почтой) и в общем-то подвижнический характер издания журнала, хотелось бы призвать авторов и самим проявлять должную ответственность и не "подставлять" редактора, предоставляющего всем не-рецензируемую свободу и уникальную возможность быстрой публикации.