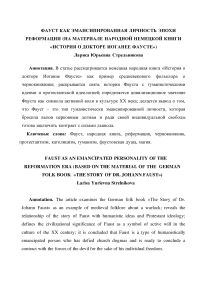Фауст как эмансипированная личность эпохи реформации (на материале народной немецкой книги "История о докторе Иоганне Фаусте")
Бесплатный доступ
В статье рассматривается немецкая народная книга «История о докторе Иоганне Фаусте» как пример средневекового фольклора о чернокнижнике; раскрывается связь истории Фауста с гуманистическими идеями и протестантской идеологией; определяется цивилизационное значение Фауста как символа активной воли в культуре XX века; делается вывод о том, что Фауст - это тип гуманистически эмансипированной личности, которая бросила вызов церковным догмам и ради своей индивидуальной свободы готова заключить контракт с силами дьявола.
Фауст, народная книга, реформация, чернокнижник, протестантизм, католицизм, гуманизм, фаустовская душа, магия
Короткий адрес: https://sciup.org/149139519
IDR: 149139519 | УДК: 821.112.2.0
Текст научной статьи Фауст как эмансипированная личность эпохи реформации (на материале народной немецкой книги "История о докторе Иоганне Фаусте")
Немецкую литературу XVI века характеризует напряженная религиозная борьба против догматов католической церкви за установление новых символов веры. Протестантизм как религиозно-философская идеология эпохи Реформации сформировала национальный немецкий язык, культуру, а также оказала существенное воздействие на личность, подвергнув ее секуляризации и направив на путь экономического оправдания перед Богом. Во главу протестантизма легли учения Кальвина, Лютера и Мюнцера, чьи труды повлияли на немецких писателей и определили антикатолический характер их творчества. В письме к папе Римскому Льву X Мартин Лютер обвиняет католическую церковь в потакании греху и нарушении догматов Священного Писания: «Всем совершенно ясно, что Римская Католическая церковь, некогда святейшая из церквей, превратилась в самый безнравственный вертеп разбойников (Мф. 21, 13), в наипостыднейший бордель, в царство греха, смерти и преисподней» [6, с. 132].
Исходя из авторитета Священного писания, идеологи протестантизма обратились к библейскому Слову для проповеди новой божественной справедливости, основанной на учении Лютера о предопределении и спасении только личной верой, без церковного участия в исцелении греховной природы человека, что противоречило традиции византийского христианства, которое обеспечило духовное руководство священства Никейским собором. Об опасности отступления от отеческой защиты церкви и впадения в еретические соблазны предупреждал Святитель Василий Великий: «Вот, братия, тайны Церкви; вот предания отцов. Объявляю всякому человеку, боящемуся Господа и ожидающему Суда Божия, не увлекаться различными учениями. Кто инако учит и не приступает к здравым учениям веры, но, отвергнув словеса Духа, собственное свое учение ставит выше евангельских догматов, такового берегитесь» [2, с. 475].
Возникшая напряженная религиозная борьба в эпоху Реформации нашла отражение в немецкой бюргерской литературе в жанрах «народных книг», шванков, показав тем самым народный характер протестантского движения, направленный против злоупотреблений католической церкви. В контексте народного мировоззрения, через полулегендарные образы Тилля Уленшпигеля, безрелигиозного священника Амиса, чернокнижника доктора Фауста, эти произведения отражают плебейский бунт, антиклерикальные настроения в крестьянской среде, а также в умах новой гуманистической интеллигенции, из которой выделилась просвещенная эмансипированная личность эпохи Реформации. На раннем этапе немецкие гуманисты следовали протестантскому движению, вдохновляясь лютеранской критикой Римской курии и мечтая о возрождении идеалов раннего христианства, к чему призывал доктор С. Брант в поэме «Корабль дураков»: «Всем нам пример – Христос: из храма гнал торгашей он взашей прямо» [1, с. 96].
В то же время протестантское учение о предопределении, разделяющее всех людей на избранных для спасения и обреченных на вечную погибель, вступило в противоречие с гуманистической доктриной антропоцентризма, провозгласившей человека мерой всех вещей. Предложения Лютера о спасении только по собственной вере несли в себе взрывной протест, направленный на разрушение основ католической церкви, как сказал Лютер: «sola fide, sola gratia, sola scriptura» («только верой, только милостью, только Писанием») [10, с.573].
Эпоха Реформации столкнула религию, науку и гуманизм в бескомпромиссной борьбе, выдвинув в качестве основной идеи борьбу с дьяволом и греховной природой человека, что дало толчок к появлению целого раздела в народной городской литературе, так называемого «фольклора чернокнижника», целью которого было разоблачение и осуждение дерзкой учености, понимаемой в протестантизме как отступничество от Бога. В противостоянии гуманистической концепции христианства в духе Эразма Роттердамского, утверждающего свободу воли человека, и протестантской идеи о бессилии воли личности также кроется причина появления такой одиозной личности, как Фауст, отразившей все противоречия религиозных конфликтов эпохи, раскрывая греховную природу человека и его первородную приверженность ко злу, распространенному по вине земного Адама.
В западном христианстве амбивалентно соединились манихейская вера в сверхъестественную силу Бога и дьявола, что выявлялось в магии и чудесах, представляемых как церковниками, так и чернокнижниками. Ориентируясь на натурфилософские знания, европейские гуманисты часто симбиозно сочетали два вида магии – дьявольскую, которая сводит человека к демоническим силам, и «естественную» магию обожествленной природы, позволяющую, по словам Ж. Делюмо, «верить в реальность договора человека с дьяволом и в существование доктора Фауста» [3, с.523]. Становится очевидным, что свободомыслящий ученый – как совершенно отдельная, индивидуальная личность – придал науке ценный характер сам по себе, соединив ее сначала с колдовством и магическими ритуалами, примером которых может быть алхимия. Поддерживаемый как католицизмом, так и протестантизмом дуализм веры в конечном итоге привел западное христианство к «святому сатанизму», который был катастрофическим для церкви и каждого верующего. Обвинения в связях с дьяволом исходили как от официальной католической церкви, так и от реформаторов, к которым часто присоединялась народная антицерковная оппозиция.
В демонологических средневековых легендах популярностью пользовались образы богоотступников, которые обратились к дьяволу с помощью черной магии ради земных благ – богатства, славы, власти, тайных знаний и т.д. Примером может быть «Чудо о Теофиле» французского трувера Рутбефа (XIII век), восходящее к греческой легенде VII века. В Теофиле отразилась борьба с еретиками, способными заключить сделку с дьяволом и отдать ему свою душу за земные блага. Первые легенды на эту тему были призваны подчеркнуть греховную ущербность человеческой природы, показать необходимость следовать канонам католической церкви с целью признать ее ключевую роль в обретении спасения через покаяние и избавления от власти дьявола. Римско-католические священники проиллюстрировали, например, силу христианских чудес в борьбе с языческой магией, используя хорошо известную новозаветную историю о Симоне Маге, который «волховал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого» (Деяния апостолов, гл.8). В Германии легенда о Симоне Маге стала очень популярной и была включена в поэму XII века «Императорская хроника», а в эпоху Реформации легенда о грешном колдуне распространилась и в народной литературе, и в протестантской теологической среде.
В лютеранской идеологии Симон Маг интерпретируется как великий грешник и чернокнижник, чем он сравним с Фаустом: «ему в наши времена подобен был доктор Иоганнес Фаустус из Кюндинга», – сообщает лютератнский пастор Самуил Мейгериус, – «которого следовало бы скорее назвать Infaustus (несчастный). Он научился искусству своему в Кракове и был весьма большим негодником» [5, с.26]. К числу таких интеллектуальных бунтарей, своего рода прототипом Симона мага, следует отнести образ доктора Фауста, впервые возникший в народной немецкой книге (1587). Близкий по духу и вере единомышленник Лютера, Филипп Меланхтон, выступил одним из самых яростных противников и обличителей еретика Фауста, утверждая, что он, словно Симон маг, «пытался в Венеции взлететь на небо, но жестоко расшибся, упав на землю» [5, с.14].
В образе Фауста нашел свое отражение идеологическим манифест лютеранской идеологии и реальный образец борьбы протестантизма с гуманизмом, утверждающий принципы свободомыслия и освобожденного от церковных догматов разума. В дошедших до нас полуисторических текстах о Фаусте складывается не только образ протестантской эпохи, но и проявляется положение человека по отношению к Богу и церкви. Это отношение можно назвать в большей степени юридически-правовым и рациональным, чем христианско-духовным, ведущим человека к спасению. Отсюда нигилистическое и юридическое отношение Фауста к религии, он с точки зрения закона признавал свое «дерзкое» и «вероломное» богоотступничество, но «уповал более на дьявола», потому что заключил с ним юридический контракт, и считал «нечестным и непохвальным… нарушить договор, который собственноручно скрепил своей кровью. Ведь дьявол – то честно сдержал все, что он мне посулил» [5, с. 32]. Вполне очевидно, что доктор Фауст стал своеобразным зеркалом духовных устремлений и душевной трагедии христианского европейского общества и индивидуально осознающего себя ренессансного человека, оказавшегося в противоречивой и двусмысленной ситуации между сложившейся гуманистической концепцией свободы личности и ограничивающей эту свободу идеологией протестантизма.
Легенда о докторе Фаусте появляется в Германии во времена развития гуманистической идеологии, на фоне распространения идеалов о независимой и раскрепощенной личности с набором прав и свобод, что привело его к отпадению от церкви и греховной гордыне. Сведения о докторе Фаусте стали появляться еще в начале XVI века, сложившись со временем сначала в «фаустовский фольклор» в виде шванков, анекдотов, а затем в народную книгу о «Докторе Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», опубликованную Иоганном Шпионом в 1587 году, за которой последовали театрализованные представления о Фаусте в жанрах народной драмы и кукольной комедии.
Историческую достоверность Фауста подтверждали ученые-гуманисты из окружения Иоганна Рейхлина и Ульриха фон Гуттена – Иоганн Тритемий, Муциан Руф, Иоахим Камерарий, Филипп фон Гуттен, Агриппа Неттесгеймский и т.п. В то же время образ Фауста закреплен в массовом сознании в виде народных легенд, перенесших его в «мир фантазий», отсюда такие невероятные описания его приключений, которые также говорят о необычайной популярности чернокнижника. Немецкие протестанты активно использовали развивающееся книгопечатание для распространения протестантской идеологии, поэтому, несмотря на популярность жанра, книгу о докторе Фаусте нельзя назвать произведением чисто народного творчества, хотя этот элемент в ней явно присутствует и важен, в первую очередь, как форма, облегчающая восприятие для рядового читателя. В первую очередь книга о богоотступнике Фаусте должна была стать мощным идеологическим инструментом для лютеранских священников в продвижении протестантских идей, а также в борьбе с католической церковью и естественными науками, отражающими светские гуманистические концепции.
Своим происхождением Фауст был связан с народной средой, как говорится в народной книге, он вышел из крестьянской семьи, «родители его также были добрые и богобоязненные люди» [7, с. 36]. Автор книги, следуя средневековой традиции, объясняет отступничество Фауста отклонением человека от богоподобного образа по своей воле, а не плохим воспитанием и природным естеством: «часто можно видеть, что у благочестивых родителей бывают неудачные, безбожные дети, как это видно на примере Каина (Бытия 4), Рувима (Бытия 49), Авессаллома (Царств 2, 15,и 18)» [7, с. 38].
Фауст получил богословское образование в Виттенберге, но, по словам автора книги, «употребил во зло Божье слово», что выразилось в отпадении от церкви и склонении к рациональному «мудрствованию», которое обозначило общеевропейскую тенденцию отделения образования и науки от церкви и формирование светской системы образования. Фаусту придавала силы и уверенности в себе свобода от религии и научные знания, поэтому он отказывается «называться теологом, а стал мирским человеком, доктором медицины, астрологом, математиком» [7, с.38]. Известно, что лютеровское учение о предопределении отвергает разум как порождение дьявола, приведшее первого человека к грехопадению. В своих «Застольных речах» Лютер рассказывает о кознях дьявола и его власти над людьми: «Дьявол хотя и не доктор, – утверждал Лютер, – и не защищал диссертации, но он весьма учен и имеет большой опыт; он практиковался и упражнялся в своем искусстве и занимается своим ремеслом уже скоро шесть тысяч лет. И против него нет никакой силы, кроме одного Христа» [7, с.279].
В начале книги внимание автора сосредоточено на интересе доктора Фауста к магическим культам, познаниям о потустороннем мире, для чего он призывает «духа-прорицателя»: « ...на это было желание Фауста, чтобы тот назавтра в двенадцать часов явился ему в его жилище, на что дьявол вначале не хотел согласиться, но доктор Фауст заклял его именем его господина, чтобы он исполнил его желание, что ему дух напоследок и обещал [7, с.40].
Заключив сделку с Мефистофелем на двадцать четыре года, Фауст стал не только богоотступником, но и проявил свое стремление к свободе от церковных догматов, следуя гуманистическим устремлениям к познанию мира, минуя религиозные предписания: « ...предался я духу, посланному мне, именующемуся Мефостофилем, слуге адского – князя в странах востока, и избрал его, чтобы он меня к такому делу приготовил и научил, и сам он мне обязался во всем быть подвластным и послушным... С этим отрекаюсь я от всех живущих, от всего небесного воинства и от всех людей» [7, с.43]. Подписание договора с духом зла закрепляется юридическим правом, согласно которому, отрекшись от Бога, Фауст попадает под власть законов дьявола и должен выполнять определенные условия: не ходить в церковь, не мыться, не жениться и вести распутный образ жизни: «Ведь он обещал враждовать с Богом и всеми людьми, поэтому не должно ему вступать в брак, ибо нельзя служить двум господам – Богу и ему, дьяволу... Что же касается прелюбодеяния и распутства – это мы считаем за благо» [7, с.46]. Фауст должен утратить человеческий богоподобный образ, соответствующий Священному Писанию: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт 1: 26).
Для средневекового человека присутствие дьявола в обычной жизни, являлось естественным событием, по замечанию В. Жирмунского, «в бытовом представлении средневекового человека дьявол фактически становился столь же могущественным, как и Бог, по крайней мере в пределах земной жизни, и это объясняло, если не оправдывало в философском смысле, существование зла и страдания на земле» [4, с.257]. Выступая противником «безбожного Фауста», народная книга отражает идеи проповеди Лютера, называя его грешником, который «отступился от своего Господа и Творца, сотворившего его», и считает «частью окаянного дьявола» [7, с.42], что проявилось в «высокомерной гордыне», являющейся греховным состоянием и в протестантской этике. В народной книге Фауста обвиняют в отклонении от Священного Писания, а также изучении и использовании магических знаний, «искусства Дарданова, нигромантии», хотя «при этом он, – как говорится в книге, – был красноречив и сведущ в божественном писании» [7, с.39]. Преступив закон Бога, Фауст почувствовал себя свободным и бесстрашным, он «выгнал душу свою из дома», «ибо любопытство, свобода и легкомыслие победили и раззадорили его» [6, с.39].
Однако отмечается, что Фауст не стал своим ни в гуманистической научной среде, ни в протестантской общине, так как слишком вознесся в своем всезнайстве, в силу чего приобрел славу хвастуна, претендующего на знание всех наук, утверждающего, например, «что если бы все труды Платона и Аристотеля и вся их философия были начисто забыты, то он, как Ездра Иудейский, по памяти полностью восстановил бы их и даже в более изящном виде» (Иоганн Тритемий) [5, с.9]. Иронически отзывается о Фаусте друг Рейхлина, Муциан Руф, характеризуя его таким образом: «некий хиромант, гейдельбергский полубог, истинный хвастун и глупец» [5, с.10], которым могут восторгаться только невежды. О приобщении к знаниям с помощью магии говорит и некий ученый Кристоф Мотчман из Эрфурта в хронике, согласно которой, Фаусту во время публичных лекций в университете «силой своих чар» удалось призвать героев Гомера, а также он «вызвался доставить на несколько часов исчезнувшие комедии Теренция и Плавта с тем, чтобы студенты могли наскоро переписать их» [5, с.33].
В таких фантастических посланиях видится страстное желание средневековых ученых приобщиться к античным знаниям, постичь тайны природы, игнорируя все моральные, этические и религиозные нормы, чтобы завладеть не только умами людей, но и всем миром, реализуя ветхозаветную идею существования человека после его грехопадения – «будете, как Боги» (Быт 3:5). Несмотря на столь неоднозначное отношение к Фаусту, в своем преследовании знаменитого чернокнижника гуманисты и протестантские теологи выступают в единстве, видя в нем опасного соперника как в науках, так и в религии. Используя магическую силу Мефистофеля, Фауст узнает об устройстве мироздания, постигает древние науки, путешествует к звездам и государствам, попадает в ад и рай, проявляя не только его тягу к знаниям, но и необычайную жажду жизни, стремление к земным радостям, проповедуя гедонизм и эпикурейство, свойственные многим ученым-гуманистам.
Следуя средневековой космогонии Х. Шеделя, автор излагает историю сотворения мира, переплетая древний платонизм и концепцию Птолемея: «Господин мой Фауст, - отвечал дух, - бог, который создал тебя, создал также и мир и все стихии под небесами, ибо сперва бог сотворил небо из лона вод и, отделив воды от вод, назвал небо твердью небесной. Таким образом, небо кругло, выпукло, подвижно, создано и образовано из воды, так же крепко крепостью, как хрусталь, и имеет сверху такой же вид, как хрусталь, на нем укреплены звезды, и благодаря этой округлости неба поделен свет на четыре части, именно — восход, закат, полдень и полночь» [7, с.57].
В описаниях рассуждений Фауста о явлениях природы можно увидеть, как происходило формирование научной картины мира. Антропоцентрическая онтология эпохи Возрождения основана на вере в то, что Бог сохраняет авторитет Творца, но перестает быть центром Вселенной, тем самым повысив статус человеческой личности, стремящейся к знаниям. Рассуждения Фауста о причинах природных явлений отражают научные представления об окружающем мире, основанные не только на опыте наблюдения и эксперименте (астрология, астрономия, алхимия, природная магия и т.д.), но и на желании проникнуть в некие сверхъестественные силы, управляющие видимыми вещами. Так, сочетая мистические и естественные причины происхождения комет, Фауст объясняет это явление изменением положения Луны по отношению к солнцу: «Когда же луна снова поднимается вверх, меняет она различные цвета, и тут происходит из этого самое большое чудо — появляется комета, и ее образ и значение различны, как это предназначено богом» [7, с.72]. В падающих звездах, по словам Фауста, «нет ничего необыкновенного», «это только люди так воображают», но «ни одна звезда не упадет с неба без божьего соизволения» [7, с.73]. Явление грома и грозы происходит, «когда столкнутся четыре небесных ветра, она сгоняют тучи в одно место или же приносят их откуда-нибудь... когда же подымается гроза, это прилетают духи, они вступают в борьбу с ветрами четырех стран света» [7, с.74]. Естественнонаучные знания Фауста все еще ограничены средневековой теологией и мистикой, предшествующей классическим (механическим) концепциям Галилея и Ньютона.
В своем вольнодумстве доктор Фауст принадлежал к тем ученым-гуманистам, кто стремился «исследовать первопричины всех вещей» [7, с.43], постичь сущность Бога и мира через природу с помощью разума и знаний, опираясь на древний материализм, отвергнутый Лютером, считавшем, что Бог «неподвластен никакому воздействию человеческой воли и разума» [7, с.38], разум не может превзойти веру, и, более того, умаляет религиозные чувства личности. Но в отличие от виттенбергского богослова, Фауст и не стремился преодолеть демонические искушения, выставляя как превосходство свой «быстрый ум, склонный и приверженный к науке» [7, с.38]. В духе протестантской идеологии автор книги подвергает критике античный материализм, учения об атомистическом строении мира Демокрита, Аристотеля, Эпикура. Мефистофель же, напротив, внушает Фаусту натурфилософскую «безбожную и лживую» концепцию сотворения мира, следуя «естественной природе»: «Мир, мой Фауст, никогда не рождался и никогда не умрет. И род человеческий был здесь от века, так что не было у него начала» [7, с.58]. Еретические взгляды Фауста основаны на популярном в ренессансную эпоху эпикурейском материализме, поэтому он «день и ночь не помышлял ни о Боге, ни об аде или дьяволе, решив, что душа и тело умирают вместе» [7, с.46]. В рассказах о греховных «блудодействах» Фауста выявился элемент онтологического антагонизма, соединяя языческие и христианские взгляды, когда возвышенное благочестие и страх перед физическими муками в аду сочетались со страстью к древней учености и прославлению земных радостей.
Последняя часть приключений доктора Фауста рассказывает о его безбожных деяниях с помощью силы «нигромантии» в повседневной жизни царствующих особ и других сословий. Народные представления о Фаусте наиболее характерны в рассказах о его проказах в жанре народных шванков, являющихся примером смеховой культуры. К приключенческим сюжетам относятся такие, как «Доктор Фауст наколдовал одному рыцарю оленьи рога», как «Доктор Фауст сожрал у одного крестьянина воз сена вместе с телегой и лошадью», «Как Доктор Фауст занял у одного еврея деньги и дал ему в залог свою ногу, которую сам отпилил себе на глазах у еврея», «Как Фауст в Фомино воскресенье вызвал заклинаниями Елену» и т.д.
В этих занимательных шванках нашел отражение раскрепощенный народный дух, желание выйти за рамки общественных норм, выразить социальный протест против правящих сословий: « ...пока рыцарь лежал и спал под окном, наколдовал ему на голову оленьи рога. Когда он проснулся и поднял голову с подоконника, обнаружил он эту проделку. Как тут было не испугаться бедняге? Ибо окно было узко и он со своими рогами не мог пролезть ни взад ни вперед» («Доктор Фауст наколдовал одному рыцарю оленьи рога») [7, с.76]. Но за этим народным карнавалом всегда виделась обратная сторона веселья – страх ожидания Страшного суда и воздаяние за греховную жизнь.
Финалом книги становится рассказ «об ужасной, устрашающей кончине доктора Фауста, который пусть послужит зеркалом и предостережением для каждого христианина» [7, с.98], соответствуя народной мудрости: «кто к черту тянется, того ни вернуть, ни спасти нельзя» [7, с.38]. Покаяние не помогает Фаусту обрести спасение, потому что с позиции лютеранской этики он обречен на гибель в силу недостаточности веры и безбожного образа жизни: «тот, кто волю Господню знает и ее преступает, будет вдвойне наказан, ибо не должен Господа Бога испытывать» [7, с.39]. Дидактический смысл покаяния Фауста на пороге смерти состоял в том, чтобы изменить его образ мышления и направить верующих на борьбу с дьяволом, для чего нужно, по словам Лютера, «иметь всегда перед очами Господа и молиться ему, чтобы Он защитил вас от козней лукавого и не вводил вас во искушение» [7, с.100]. С целью объединения мирян против греха, лютеранские священники сообщают о безлюдной и ужасной смерти доктора Фауста от рук дьявола, что является расплатой за «тщеславную любовь к дьявольской науке магии и отступление от любви к Богу», как сказано в эпитафии [7, с.34].
Но покаяние Фауста, как и проповедь Лютера, выглядело слишком неубедительным, формальным и перекрывалось его богоборческой натурой. Не случайно в описании ужасной смерти Фауста, составленном в форме проповеди, использованы фольклорные поговорки и меткие выражения, которые, по мнению автора, должны представлять народную религиозную мудрость, что совпадает с положениями учения Лютера о неотвратимости наказания грешника: «Потому-то, мой Фауст, не годится с чертями и с большими господами вишни есть: они плюют тебе кости прямо в лицо, как ты теперь видишь... Плохо с чертом идти через лед: плохо ты начал, дурное начало – дурной конец... Раньше был ты у черта половником, а нынче он тобой брезгует» [7, с.97].
Трагедия отпадения человека от Бога в эпоху Реформации привела к разрушению земного мира, и все дороги, согласно лютеровской теологии, теперь вели в ад. Определяя границы Божьего милосердия как милосердие без границ, в котором проявилась идея оправдания, Лютер в своем учении противоречит собственной позиции о безграничности Божьей любви, и получается, что грехи Фауста обретают свое измерение и «превышают меру того, что может ему проститься» [7, с.101]. Отчаяние Фауста показывает не только его степень отпадения от Бога, но и страх перед неизбежным наказанием, так как протестантская догматика не признает участие человека в спасении и трактует природу личности как греховную окончательно, склонную к дьявольским искушениям: «Кто спасет меня? Куда бежать? Вижу: куда ни подамся – я пойман» [7, с.96].
В последующие эпохи фольклорная форма «Народной книги о докторе Фаусте» вышла за рамки традиционной народной культуры и протестантской догматики, придав импульс идеологической и духовной революции, произошедшей в эпоху гуманизма и реформации в западноевропейском обществе. Сюжет народной книги лег в основу пьесы английского драматурга Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста» (1604), в которой
Фауст представлен как титаническая личность эпохи Возрождения, что стало показателем активизации процесса секуляризации западного христианства. Как и автор народной книги, Марло видит причины гибели Фауста в чрезмерной гордыне и недостатке веры, именно поэтому он не смог преодолеть искушения дьявольских сил:
Нет Фауста. Его конец ужасный Пускай вас всех заставит убедиться, Как смелый ум бывает побежден, Когда небес преступит он закон [9, с.244].
«Как влюблена была Германия в своего доктора Фауста», – скажет в эпоху Просвещения Лессинг, увидев в Фаусте черты национального характера [8, с.246]. Образ доктора Фауста не ограничивался фольклором и теологическим пониманием, он перерос самого себя и стал своеобразным символом «фаустовской души» и воплощением философии активной абсолютной воли, «собственного мнения» и «собственной морали» с «претензиями на всеобщую и долговременную значимость», по определению О. Шпенглера, данному им в книге «Закат Европы» [11, с.397, 399]. Фаустовский поиск истины вне Бога как воплощение философско-гуманистической картины мира после появления народной книги впервые был воплощен в трагедии Гете «Фауст» (1832) и завершился в начале XX века в книге Шпенглера «Закат Европы» (1923). В своей философской концепции современного мира Шпенглер утверждает наступление трагической эпохи фаустовского господства: «Это цивилизация вместо культуры, внешний механизм вместо внутреннего организма, интеллект как душевная окаменелость вместо самой угасшей души» [11, с.411].
Созданная на волне реформационных настроений, народная книга о Фаусте ясно показала, насколько ренессансный гуманизм и протестантизм противопоставлялись друг другу в понимании мира и человека. Гуманистическая идеология пошла по пути оправдания Фауста как автономной эмансипированной универсальной личности, убежденной в прогрессивности разума и науки. Такой человек не нуждается в личном спасении, предвосхищая тем самым сверхчеловека Ницше, который для Гете станет демиургом европейской цивилизации, в то время как для лютеранства он стал воплощением человека, безвозвратно погрязшего в грехе, обманутого и порабощенного дьяволом по своей естественной природе. В народной книге Фауст предстает как исключительная личность не только ренессансной, но и протестантской эпохи, в которой так полно воплотился синтез мистического знания, веры и гуманистического титанизма.
Список литературы Фауст как эмансипированная личность эпохи реформации (на материале народной немецкой книги "История о докторе Иоганне Фаусте")
- Брант, С. Корабль дураков / Брант С. – М.: Художественная литература, 1989. – 478 с.
- Василий Великий. Письма / Василий Великий. – М.: Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. – 560 с.
- Делюмо, Ж. Цивилизация Возрождения / Ж. Делюмо. – Екатеринбург, У-Фактория, 2006. –720 с.
- Жирмунский, В. История легенды о докторе Фаусте / Жирмунский В. // Легенда о докторе Фаусте. – М.: Наука, 1978. – С. 257-363.
- Исторические и легендарные свидетельства о докторе Фаусте // Легенда о докторе Фаусте. – М.: Наука, 1978. – С. 9-35.
- Кристен, О. Реформы Лютера, Кальвина и протестантизм. – М.: АСТ; Астрель. – 2005. – 160 с.
- Легенда о докторе Фаусте. – М.: Наука, 1978. – 422 с.
- Лессинг, Г.Э. Из писем о новейшей немецкой литературе / Г.Э. Лессинг // Легенда о докторе Фаусте. – М.: Наука, 1978. – С.245-257.
- Марло, К. Трагическая история доктора Фауста / К. Марло // Легенда о докторе Фаусте. – М.: Наука, 1978. – С.189-245.
- Религия. Энциклопедия. – Минск, Книжный дом, 2007. – 960 с.
- Шпенглер, О. Закат Европы / Шпенглер О. – М.: Айрис Пресс, 2006. – 528 с.